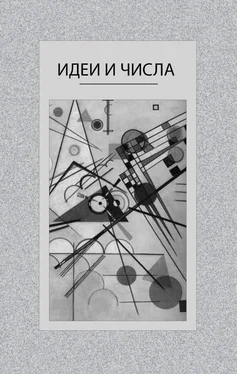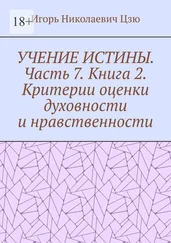Важную роль здесь сыграли в том числе переговорные процессы (если их можно назвать такими) в ходе проведения реформы науки на стадии прохождения соответствующего законопроекта. Тогда в научном сообществе были две конкурирующие позиции: добиваться компромисса – или же идти на обострение и занимать радикальную позицию в отношении планов и действий, представляющихся неприемлемыми. События развивались в два этапа. На первом этапе казалось, что первая позиция более оправданна, поскольку появлялись обнадеживающие договоренности. Далее, по мере того как эти договоренности нарушались, большее внимание привлекала позиция тех, кто предупреждал о безнадежности тактики компромиссов и предлагал более жесткое противодействие планам кавалерийского реформирования отечественной науки.
После принятия закона ситуация радикально меняется и еще в одном крайне важном отношении. В процессе прохождения закона в переговорный процесс в итоге оказался вовлечен и сам президент, и его положение здесь трудно было признать особенно комфортным. Соответственно, противодействие реформе воспринималось как противодействие высшим политическим инстанциям и «генеральной линии». В ходе реализации реформы горизонт противодействия смещается вниз, в плоскость взаимоотношений академических и прочих институтов, с одной стороны, и управленческих инстанций – с другой. Это и Минобрнауки, и ФАНО, и дочерние структуры, которые будут в этом процессе задействованы. Поэтому эти структуры власти должны быть готовыми к встречной оценке своих действий, начиная с их информационно-аналитического сопровождения и заканчивая реализацией оргвыводов. Можно легко игнорировать критику проектов политических решений, но трудно игнорировать обструкцию всей той информационно-аналитической инфраструктуры, которая эту политику призвана обеспечивать. Ситуация резко упрощается и приближается к конфликту работника и работодателя, возникающего вследствие того, что работодатель недоплачивает работнику, неверно зафиксировав рабочее время и объем проделанной работы. Это уже коллизия, к которой может привести в том числе и использование неадекватных методов оценки результативности исследований. Ситуация непростая, даже с учетом некоторых особенностей нашей судебной системы.
Эта коллизия может иметь и более общее продолжение. С точки зрения общества и государства есть прямая заинтересованность в оценке результативности деятельности и самой власти, ее конкретных институтов и подразделений. В принципе к этому подходили в начале «нулевых» годов, когда готовилась административная реформа. В том числе речь шла и о формализованных оценках такой деятельности.
Естественно, идеология и методики такой оценки имеют (должны иметь) научное происхождение: они не высасываются из пальца, но базируются на данных и разработках наук об управлении, об экспертных оценках, о формализации данных и т. п.
Тогда, в ходе реализации первого этапа административной реформы, особенно далеко продвинуться не удалось, хотя в расчистке «вопросов» и «функций», содержащихся в соответствующих правоустанавливающих документах, было сделано немало, что нашло свое отражение в новой системе.
Сейчас, в ситуации явного осложнения экономического положения и, мягко говоря, неясности перспектив экономического роста, логично выглядит и экономия расходов на государственный аппарат. Помимо собственно экономической составляющей эта проблема имеет еще и политическую подоплеку: трудно экономить на социальных расходах, наращивая или даже хотя бы не сокращая расходов на бюрократию. Все это может иметь вполне определенные электоральные последствия, а потому нуждается в самом серьезном к себе отношении.
В этом плане особенно эффективными представляются партнерские взаимоотношения науки и государства, причем участие науки в подготовке и реализации стратегии дебюрократизации было и с точки зрения самой власти актом очевидно эффективного внедрения результатов научной деятельности, причем как фундаментального, так и прикладного характера.
В качестве первого, пилотного акта такого взаимодействия самым очевидным образом напрашивается взаимодействие академической среды, с одной стороны, и системы управления наукой – с другой. Исследование и анализ эффективности работы Минобрнауки, ФАНО и пр. могли бы стать идеальным полигоном для отработки такого рода методик. Хотя бы потому, что при всех различиях исследования и управления в этих видах деятельности есть много общего, в том числе и в оценке результативности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу