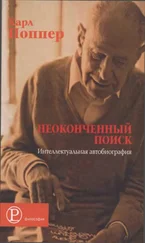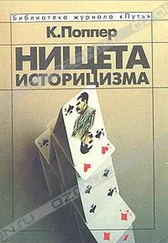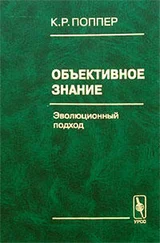В противоположность этой теории, эмпиризм утверждает, что только опыт позволяет нам судить об истинности или ложности научной теории. Чистый разум как таковой, согласно эмпиризму, никогда не может установить истину о фактах (bactual truth): чтобы сформулировать такую истину, мы должны прибегнуть к наблюдению и эксперименту. Можно с полной уверенностью сказать, что эмпиризм, в той или иной форме, пусть даже умеренной и видоизмененной, есть единственная интерпретация научного метода, которую в наши дни можно воспринимать всерьез. Спор между рационалистами и эмпиристами всесторонне обсуждался Кантом. Кант попытался создать теорию, которую диалектик (но не сам Кант) назвал бы синтезом двух противоположных точек зрения и которая, если говорить, точнее, была видоизмененным эмпиризмом. Его главной задачей было опровержение чистого рационализма. В “Критике чистого разума” он утверждал, что область нашего знания ограничена сферой возможного опыта и что спекулятивное рассуждение за пределами этой сферы — попытка построить метафизическую систему, исходя из чистого разума, — не имеет никакого оправдания. Эта критика чистого разума была воспринята как страшный удар по надеждам почти всех континентальных философов; и все же немецкие философы пришли в себя и, отнюдь не убежденные кантовским отвержением метафизики, принялись строить новые метафизические системы, основанные на “ интеллектуальной интуиции ”. Они пытались использовать некоторые детали Кантовой системы, надеясь тем самым уклониться от его основного удара. Развившаяся школа, называемая обычно школой немецкого идеализма, имела своей кульминацией Гегеля.
Мы должны обсудить здесь две стороны гегелевской философии, — идеализм и диалектику. В обоих случаях Гегель находился под влиянием некоторых идей Канта, но попытался пойти дальше. Чтобы понять Гегеля, мы должны показать, следовательно, как он использовал теорию Канта.
Кант исходил из факта существования науки. Он хотел объяснить этот факт, то есть ответить на вопрос “как возможна наука?”, или “почему человеческое сознание (mind) способно познавать мир?”, или “как наше сознание может понимать мир?”. (Мы бы назвали это эпистемологической проблемой.)
Кант рассуждал примерно следующим образом. Сознание способно постигать мир или, вернее, мир, как он представляется нам, потому что этот мир не является совершенно отличным от сознания, — он подобен сознанию. Дело в том, что в процессе приобретения знания, постижения мира наше сознание, так сказать, активно усваивает весь материал, который привходит в него посредством чувств. Оно оформляет этот материал, отчеканивает на нем собственные внутренние формы или законы, — формы или законы нашего мышления. То, что мы называем природой, — мир, в котором мы живем, каким он является нам, — есть мир уже усвоенный, систематизированный нашим сознанием. И будучи, таким образом, ассимилирован сознанием, он сознанию и подобен.
Такой ответ “сознание способно постигать мир, потому что мир, как он является нам , подобен сознанию”, основан на идеалистическом аргументе; ведь идеализм только и утверждает, что мир имеет что-то общее с сознанием.
Я не собираюсь предлагать доводы за или против кантовской эпистемологии и не намерен подробно обсуждать ее. Но я хочу подчеркнуть, что она безусловно не является полностью идеалистической. Как отмечает сам Кант, она представляет собой смесь, или синтез , своеобразного реализма и идеализма; ее реалистический элемент — это утверждение, что мир, как он является нам, есть некоторый материал , организованный нашим сознанием, идеалистический же — утверждение, что он есть материал, организованный нашим сознанием .
Такова довольно абстрактная, но, несомненно, оригинальная эпистемология Канта. Прежде чем перейти к Гегелю, я должен попросить читателей — моих любимых читателей, которые не являются философами и привыкли полагаться на свой здравый смысл, — не забывать об эпиграфе, предпосланном этой статье, поскольку то, что они сейчас услышат, наверное, покажется им абсурдом — и, на мой взгляд, совершенно справедливо.
Как я сказал, Гегель в своем идеализме пошел дальше Канта. Гегель тоже задавал себе эпистемологический вопрос: “почему наше сознание может постигать мир?” И вместе с другими идеалистами он отвечал: “Потому что мир подобен нашему сознанию”. Но его теория была более радикальной, нежели Кантова. Он не говорил, как Кант: “Потому что сознание систематизирует или организовывает мир”, а говорил, что “сознание есть мир” или еще: “разумное есть действительное; действительность и разум тождественны”.
Читать дальше