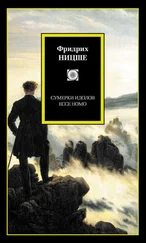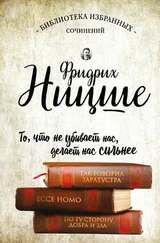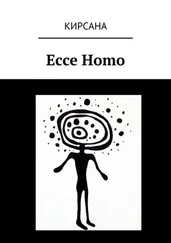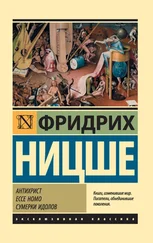Цитата из «Так говорил Заратустра», глава «О дарящей добродетели», § 3, аб. [2–9].
В октябрьской редакции «Ecce homo» значится как первый параграф, датируется 15-м октября 1888. Ср.: ПСС 13, 23 [14].
Ср.: «Сумерки идолов», «Чем обделены немцы», 6.
Об истории этого параграфа см. выше в преамбуле. В предыдущих изданиях вместо него публиковался следующий текст: «Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединённые миры повторяется в моей натуре во всех отношениях — я двойник, у меня есть и “второе” лицо кроме первого. И, должно быть, ещё и третье... Уже моё происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть «добрым европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, — я последний антиполитический немец. И однако, мои предки были польские дворяне: от них в моём теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и liberum veto. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к краплёным немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Её брат, профессор богословия Краузе в Кёнигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем “Мутген” в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырёх принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королём Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рождённый в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов — Фридрих Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. — Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества — за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. — Чтобы только понять что-либо в моём Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, — одной ногой стоять по ту сторону жизни». ( Пер. Ю. Антоновского. )
Ср.: «Сумерки идолов», «Набеги Несвоевременного» 44.
О визите фон Штайна в Энгадин и о его кончине см. в письмах Ф. Овербеку от 14 сентября 1884 и 30 июня 1887 (НП, с. 226–227, 278).
Ср. черновик письма фон Штайну: НП, с. 233–234.
Под этим названием Ницше планировал осенью 1888 года публикацию четвёртой части «Так говорил Заратустра». Варианты подзаголовков к этой публикации см.: ПСС 13, 22 [13, 15, 16].
Ср. «Антихрист», 20.
В Dm после этих слов следовала поначалу другая концовка параграфа, которую Ницше вычеркнул при редактуре в начале декабря: «И даже в случае Вагнера, — ведь как мог бы я отрицать, что из своей дружбы с Вагнером и госпожой Вагнер я вынес самые отрадные и возвышенные воспоминания, — что между нами ни разу не пробежало ни единой тени? Именно это даёт мне нейтральность взгляда, необходимую, чтобы видеть проблему Вагнера как проблему культуры вообще — и, возможно, разрешить её... В-пятых и в последних: я нападаю только на те вещи, которые я знаю досконально, — которые я сам пережил, которыми я в определённой степени сам был когда-то. Христианство моих предков находит во мне своё завершение, — взращённая самим христианством, ставшая солнечно ясной строгость интеллектуальной совести обращается против христианства: в моём лице судит себя, во мне преодолевает себя само христианство».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

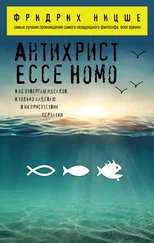
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](/books/77555/anatolij-livri-ecce-homo-rasskazy-thumb.webp)