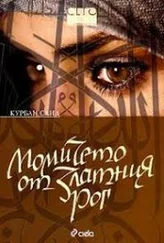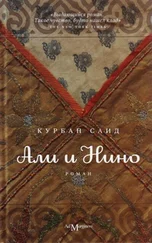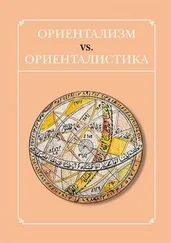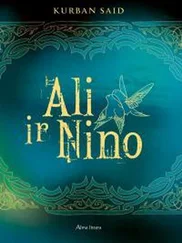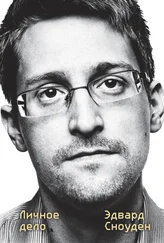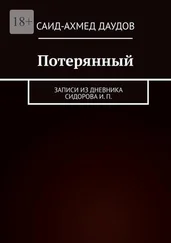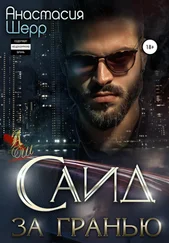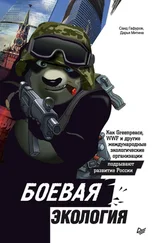1 ...5 6 7 9 10 11 ...225 26
но современный специалист по викторианской Англии не станет спорить, что либеральные культурные герои, такие как Джон Стюарт Милль, Арнольд, Карлейл, Ньюмен, Маколей, Рескин, Джордж Элиот и даже Диккенс имели определенные взгляды на расу и империализм, следы которых несложно отыскать в их работах. Так что даже специалисту приходится смириться с тем, что Милль, например, ясно выразился в работе «О свободе и представительном правлении» («On Liberty and Representative Government»): его взгляды нельзя переносить на Индию (добрую часть своей жизни он проработал в министерстве по делам Индии), потому что индийцы, если и не в расовом, то в цивилизационном отношении стоят ниже нас. Такого же рода парадоксы, как я постараюсь показать ниже, можно найти и у Маркса. Во вторых, считать, что политика в лице империализма имеет отношение к созданию литературы, гуманитарного знания, социальной теории и исторических работ — это ни в коем случае не то же самое, что утверждать, будто культура тем самым оказывается унижена или опорочена. Ровно наоборот: вся моя позиция состоит в попытке сказать, что мы лучше сможем понять устойчивость и прочность таких гегемонических систем, как культура, если поймем, что их внутренние ограничения, накладываемые на писателей и мыслителей, действительно были продуктивными, а не только лишь сдерживающими. Именно эту идею определенно Грамши, а Фуко
5 и Реймонд Уильямс каждый в свойственной ему манере и пытались проиллюстрировать. Даже пара страниц о «пользе империи» из «Долгой революции» Уильямса скажет нам о богатстве культуры XIX века больше, чем многие тома герметичного текстуального анализа.* Поэтому я рассматриваю ориентализм как динамический обмен между отдельными авторами и крупными по* Williams, Raymond. The Long Revolution. London: Chatto & Windus, 1961. P. 66–67.
27
литическими темами (concerns), заданными тремя великими империями — Британской, Французской и Американской — на чьей интеллектуальной и имагинативной территории это письмо (writing) создавалось. Как ученого, меня более всего интересует не столько общая политическая достоверность, сколько детали, как нас интересует у тех же Лэйна, Флобера или Ренана не столько неоспоримая (для них) истина о том, что западные люди стоят гораздо выше людей восточных, сколько глубоко обоснованные и выверенные свидетельства их скрупулезной работы в пределах широкого пространства, открываемого этим обстоятельством. Нужно только вспомнить, что «Сообщение о нравах и обычаях современных египтян» является классикой исторического и антропологического наблюдения благодаря своему стилю, благодаря его исключительно метким и блестящим подробностям, а не просто из за рассуждений о расовом превосходстве, чтобы понять, что я имею в виду. Ориентализм поднимает политические вопросы следующего характера: какие еще типы интеллектуальных, эстетических, научных и культурных энергий участвуют в создании такой имперской традиции как ориентализм? Каким образом филология, лексикография, история, биология, политическая и экономическая теория, художественная литература и лирическая поэзия становятся на службу широкому империалистическому взгляду ориентализма на мир? Какие изменения, корректировки, усовершенствования, даже революции происходят в пределах ориентализма? Какова роль в этом контексте оригинальности, преемственности, индивидуальности? Каким образом ориентализм передается или воспроизводится от эпохи к эпохе? В общем, каким образом мы можем относиться к культурному, историческому феномену ориентализма как роду сознательной деятельности человека — ане только как к безапелляционным рассуждениям — во всей его исторической сложности, деталях и достоинствах, одновременно не упуская из виду альянса между культурной
28
работой, политическими тенденциями, государством и специфическими реалиями господства? В таком случае гуманитарное исследование сможет ответственно обращаться к политике и культуре. Однако это совсем не то же самое, что сказать, будто подобное исследование устанавливает жесткие правила взаимоотношений между знанием и политикой. Моя позиция состоит в том, что каждое гуманитарное исследование должно выявить природу этой связи в специфическом контексте исследования, предмета и его исторических обстоятельств. 2. Методологический вопрос. В предшествующей книге я много говорил о методологической важности выявления начала, отправной точки, исходного принципа исследо* вания в области гуманитарных наук. Главный урок, который я извлек для себя и попытался передать его другим, состоит в следующем: нет ничего такого, что могло бы считаться всего лишь данностью или просто подходящей начальной точкой — начало каждого проекта должно быть таким, чтобы обеспечить возможность последующего движения. И нигде в моей практике вся трудность этого урока не проявилась столь явно (в какой степени успешно или неуспешно — не мне судить), как при исследовании ориентализма. Идея начала, — а в действительности акта начала, — с необходимостью включает в себя акт размежевания в ходе которого нечто отсекается от большой массы материала, отделяется от него и объявляется — а также действительно становится — исходной точкой, началом. Для того, кто изучает тексты, такой позицией начального размежевания является идея Луи Альтюссера о проблеме, аналитически вскрываемом специфически детерминированном единстве текста или группы текстов.** Однако при изучении ориентализма (в отличие от текстов Мар* Said. Beginnings: Intention and Method. N. Y.: Basic Books, 1975. ** Althusser, Louis. For Marx. Trans. Ben Brewster. N. Y.: Pantheon Books, 1969. P. 65–67.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу