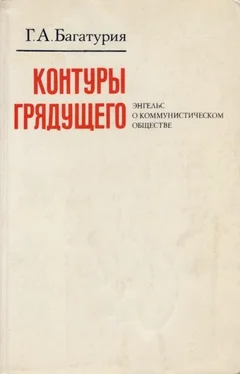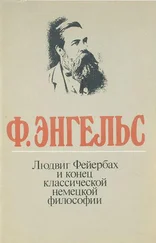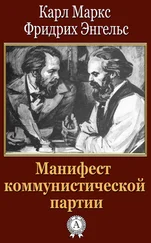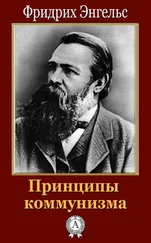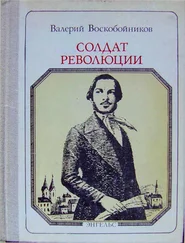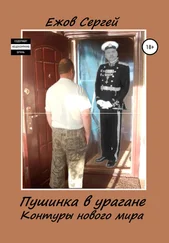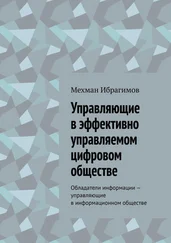В такой форме прогноз относительно применения достижений науки к области земледелия высказывается здесь впервые (ср. 1, 563, 568).
Здесь уже ясно видно, что развитие производства определяет способ распределения.
Это уточнение появляется здесь впервые: не разделение труда вообще, а разделение труда в его теперешнем (или прежнем ) виде (в позднейшей терминологии: старое разделение труда).
Это очень важное положение. Аналогичные взгляды мы уже встречали в «Немецкой идеологии». Развитие производства вовсе не сводится к развитию материальных производительных сил, средств производства. Оно предполагает развитие способностей самих производителей, их личных производительных сил. Отсюда следует, что коммунизм не может быть только обществом, в котором достигнуто изобилие продуктов. Это – общество всесторонне развитых людей. Коммунизм вовсе не сводится к удовлетворению потребностей в узком смысле. В широком смысле к этим потребностям относится и потребность человека во всестороннем развитии его способностей. И не только в целях производства.
Энгельс снова опирается на историческую аналогию.
Здесь Энгельс развивает мысль об устранении прикованности к определенной профессии, высказанную в «Немецкой идеологии».
Еще одна конкретизация: смена родов деятельности будет зависеть от двух различных факторов – от потребностей общества и от склонностей (потребностей) самих людей.
Опираясь на диалектику, Энгельс выявляет взаимообусловленность того и другого.
Здесь, как и в случае частной собственности, диалектически выявляются и исторически обусловленная необходимость и исторически преходящий характер противоположности между городом и деревней.
Социализм, как отмечал Ленин, «облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние наций», которое завершится только при полном коммунизме (51, т. 30, 21). XXIV съезд КПСС констатировал, что в процессе социалистического строительства в нашей стране сложилась новая историческая общность людей – советский народ , и поставил задачу последовательно добиваться дальнейшего постепенного сближения всех социалистических наций нашей страны (53, I, 101, II, 232 – 233).
«Здесь мы видим, – отмечал Ленин в книге „Государство и революция“, – формулировку одной из самых замечательных и важнейших идей марксизма в вопросе о государстве, именно идеи „диктатуры пролетариата“…» (51, т. 33, 24, ср. 158, 198).
Отсюда видно, что первоначально после установления диктатуры пролетариата частная собственность буржуазии, – очевидно, имеются в виду прежде всего средства производства, представленные крупной промышленностью, – будет превращена в государственную собственность.
Отсюда следует, что существующие производительные силы, хотя они и переросли уже буржуазные производственные отношения, все же недостаточны еще для непосредственного перехода к коммунизму.
В «Манифесте» сказано именно так. Не может свободно развиваться все общество в целом, если нет условий для свободного развития каждого его члена. По существу, ту же мысль впоследствии выскажет Энгельс и в «Анти-Дюринге»: «Общество не может освободить себя, не освободив каждого отдельного человека» (20, 305). Это аналогично известному марксистскому положению (его сформулировал Энгельс): «не может быть свободен народ, угнетающий другие народы» (4, 372; 18, 509). Однако, с другой стороны, очевидно, что коренными условиями освобождения угнетенных классов и свободного развития каждого человека являются: уничтожение частной собственности, классового антагонизма и всех классовых различий, преобразование всех общественных отношений, свободное развитие всех производительных сил, всего общественного производства – одним словом, коммунистическое преобразование всего общества в целом. Таким образом, свободное развитие общества и свободное развитие каждого его члена взаимно обусловливают друг друга.
В отличие от «Немецкой идеологии» здесь говорится уже не об «уничтожении труда», а об уничтожении наемного труда.
Как вскоре выяснилось, такое предположение было ошибочным.
Это письмо привез ему 16 июня член Союза коммунистов В. Клейн, до нас оно не дошло.
Читать дальше