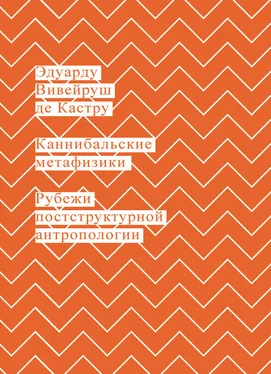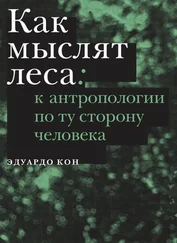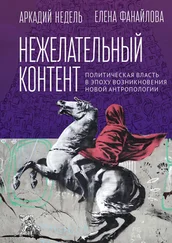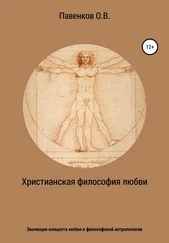Проблема каннибализма… состоит не в необходимости найти причину обычая, а напротив, в объяснении того, как был выявлен этот нижний предел хищничества, к которому, возможно, сводится общественная жизнь (Lévi-Strauss, 1984, p. 144; см. также: Леви-Стросс, 2007 [1971], с. 656).
А это уже не что иное, как применение классического структуралистского правила, которое утверждает «невозможность существования сходства самого по себе: оно лишь представляет собой особый случай различия – тот случай, когда данное различие стремится к нулю» (Леви-Стросс, 2007 [1971], с. 34) [26] Рецепт классический, но очень немногие из числа так называемых «структуралистских» антропологов смогли действительно довести эту идею до конца, то есть шагнуть за ее пределы. Быть может, потому, что в противном случае они бы слишком сблизились с «Различием и повторением»?
. Всё дело, конечно, в глаголе «стремиться», поскольку, как отмечает сам Леви-Стросс, различие «никогда не исчезает полностью». Мы и правда могли бы сказать, что оно во всей свой концептуальной мощи раскрывается лишь тогда, когда становится сколь угодно малым: например, как сказал бы индейский философ, между близнецами (Lévi-Strauss, 1991).
* * *
Представление о том, что актуальные нелю́ди обладают невидимым свойством личностноподобия, является фундаментальной посылкой многих аспектов туземной практики; но на первый план оно выходит в особом контексте, а именно в шаманизме. Индейский шаманизм можно определить как проявляемую некоторыми индивидами способность переходить телесные границы, разделяющие виды, и занимать точку зрения иновидовых субъективностей, дабы уладить отношения между ними и людьми. Видя нечеловеческие существа так, как они видят самих себя (то есть как людей), шаманы получают возможность взять на себя роль активных собеседников в трансвидовом диалоге; но самое главное – они способны вернуться и рассказать историю, что едва ли могут сделать профаны. Встреча и обмен перспективами – это сложный процесс и политическое искусство, своего рода дипломатия. И если публичной политикой западного релятивизма является мультикультурализм, то космической политикой индейского шаманского перспективизма выступает мультинатурализм.
Шаманизм – это способ действия, предполагающий определенный способ познания, или, скорее, некоторый его идеал. Такой идеал в некоторых отношениях является полной противоположностью объективистской эпистемологии, поддерживаемой западным модерном. Для последней «телосом» выступает категория объекта: познавать – значит «объективировать»; уметь отличать в объекте то, что ему внутренне присуще, от того, что принадлежит познающему субъекту и что в таком качестве было спроецировано на объект – неправомерно или неизбежно. Соответственно, познавать – значит десубъективировать, выявлять толику субъекта, присутствующую в объекте, дабы свести ее к идеальному минимуму (или усилить ради большей выразительности критического эффекта). Субъекты, так же как и объекты, рассматриваются в качестве результатов процесса объективации: субъект конституируется или признает себя в объектах, производимых им, и себя он объективно познает тогда, когда ему удается увидеть себя «извне», как «это». Наша эпистемологическая игра называется объективацией; то, что не было объективировано, остается нереальным или абстрактным. Форма Иного – это вещь.
Индейский шаманизм вдохновляется противоположным идеалом: познавать – значит «персонифицировать», занимать точку зрения того , что должно быть познано. Или, скорее, того, кто должен быть познан; поскольку всё дело в том, чтобы знать «вещи как кого-то » (Гимараэш Роза), без этого нельзя было бы дать разумный ответ на вопрос «почему?» Форма Иного – это личность. Если использовать модный жаргон, можно сказать, что шаманская персонификация или субъективация отражает склонность универсализировать «интенциональную установку», которой придают такое значение некоторые современные философы сознания (или философы сознания модерна). Или, если быть точнее, поскольку индейцы вполне способны в повседневной жизни придерживаться «физической» и «функциональной» установок (Dennett, 1978), можно сказать, что мы имеем здесь дело с эпистемологическим идеалом, который, не стремясь свести «окружающую интенциональность» к нулевой отметке ради достижения абсолютно объективного представления о мире, делает, скорее, противоположную ставку: истинное познание стремится раскрыть максимум интенциональности за счет процедуры систематической и умышленной «абдукции агентности» [27] Абдукция ( abduction ) – термин введен Ч. С. Пирсом для обозначения особого рода недедуктивных логических выводов, затем использовался антропологом Альфредом Джеллом. – Примеч. пер.
Читать дальше