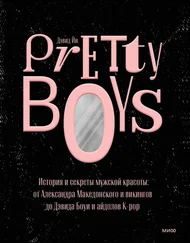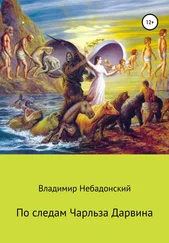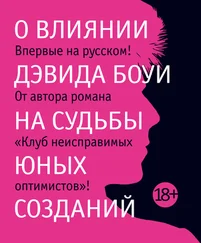Вот эти неизвестные виды и представляли собой самую большую проблему. В эпоху до революционной работы Дарвина сама возможность существования вида, который когда-то жил, а потом исчез, сильно обескураживала. Если все живое сотворено Богом (в чем почти ни у кого не было сомнений), то зачем понадобилось Творцу сначала создавать какой-то вид, а потом уничтожать его? И поскольку во всем множестве живых существ, казалось, просматривалась некая степень упорядоченности (сходство между видами на протяжении тысячелетий побуждало натуралистов классифицировать их, укладывая в разные иерархические системы вроде средневековой Великой цепи бытия), то разве не досадно было, что вымершие виды нарушали эту стройную картину, создавая в ней разрывы? И наконец, если виды могут вымирать, то разве жизнь на Земле не будет постепенно угасать, чтобы в конце концов исчезнуть окончательно? Все эти тревожащие вопросы заставили большинство натуралистов воспринимать незнакомые окаменелости как свидетельство того, что подобные существа все еще живут где-то в неизведанных уголках мира: динозавры в дебрях африканских джунглей, аммониты в глубинах океана. Выдающийся французский зоолог Жорж Кювье неопровержимо доказал, что некоторые окаменелости представляют собой виды, которые исчезли навсегда. Неоспоримые доводы в пользу своей концепции вымирания Кювье привел в статье 1796 г. об ископаемых слонах. Если коротко, то он убедительно показал, что ископаемые мамонты и мастодонты явно отличаются от обоих видов современных слонов, и подчеркнул, что, если бы мамонты все еще жили на Земле, мы бы о них, несомненно, знали. В конце концов, мамонты – существа крупные и весьма заметные.
Таким образом, благодаря работе Кювье Агассис смог описать ископаемых целакантов как вымершие виды из глубин земного прошлого. Если целаканты процветали в течение 300 млн лет, а потом исчезли вместе с динозаврами (хотя Агассис не знал точных временны́х масштабов), это, вероятно, вызывало разочарование, но отнюдь не удивление. Никто не искал живых целакантов, так же как никто всерьез не ищет живых динозавров. И когда южноафриканское рыболовецкое судно выловило живого целаканта в 1938 г., это стало зоологической сенсацией века.
В открытии современного целаканта ключевую роль сыграли три человека: капитан рыболовецкого судна, химик, страстно любивший рыб, и молодая хранительница музея. Первый поймал рыбу, второй определил ее и дал ей название, но важнее всех была роль третьей. И современный вид целакантов теперь носит ее имя: Latimeria chalumnae .
Марджори Куртене-Латимер родилась в 1907 г. в Ист-Лондоне (Южная Африка). В детстве она увлекалась птицами: в 11 лет объявила, что когда-нибудь напишет о них книгу, а тем временем собирала коллекцию перьев и яиц. Ее также очаровал маяк на острове Бёрд (Птичьем острове), который иногда по вечерам был виден из окна ее спальни. В молодости она была недолго помолвлена с человеком, не одобрявшим ее «безумного увлечения собиранием растений и лазанием по деревьям за птицами» [80] Цит. по: Weinberg 2000:11.
. Он выставил ей ультиматум: природа или он – она раздумывала недолго. Ее самой большой мечтой было работать в музее, но тогда не многие музеи набирали персонал и еще меньше были готовы нанять женщину, поэтому в 1931 г. она поступила на курсы медсестер. Однако буквально за несколько недель до начала занятий друг-натуралист предложил ей принять участие в конкурсе на должность хранителя нового музея, создававшегося в Ист-Лондоне. На собеседовании она поразила совет музея знаниями о южноафриканской гладкой шпорцевой лягушке, и ее приняли на эту должность. Поначалу ей было особенно нечего курировать: вся коллекция музея (по ее же словам) состояла из шести чучел птиц, кишащих жуками, коробки с кусками камней, которые считались орудиями каменного века, что было весьма сомнительно, шестиногого поросенка в стеклянной банке, десятка гравюр с пейзажами Ист-Лондона и еще десятка – со сценами из войн между племенами коса и европейскими поселенцами. Она сожгла чучела, выбросила камни и стала собирать экспонаты с нуля, начав с более убедительных каменных орудий из собственной коллекции и яйца дронта из теткиной. (Действительно ли это яйцо дронта, неясно и сейчас, почти 90 лет спустя. Если это так, то это единственное неповрежденное яйцо дронта в мире.)
В последующие годы она собирала все, что попадалось ей под руку, и фонды музея росли. Она также создала целую сеть сотрудников, двое из которых будут особенно важны для истории целаканта. С первым она познакомилась в 1933 г. – это был Джеймс Леонард Брайерли Смит, профессор Университета имени Сесила Родса, находящегося неподалеку от Ист-Лондона в Грэхемстауне. Хотя Смит получил химическое образование и преподавал химию, он увлекался рыболовством и биологией рыб и сам предложил Куртене-Латимер определять рыб из ее коллекции для музея. Тогда он и представить не мог, к чему это приведет. Второго помощника она встретила три года спустя, когда наконец добралась до острова Берд, – речь идет о Хенрике Гусене, капитане рыболовецкого траулера «Нерина». После долгих лет настойчивых ходатайств она все же добилась разрешения посетить остров и собрать там образцы птиц, растений, раковин, водорослей и рыб – всего пятнадцать больших ящиков. Траулер Гусена регулярно заходил на остров Берд для ловли кроликов, чтобы хоть как-то разнообразить скудный рыбный рацион команды. Там он встретил Куртене-Латимер и предложил перевезти ее ящики в Ист-Лондон. А также, что оказалось еще полезнее, предложил сохранять для музея некоторых рыб и других морских существ, попавших в сети трала. У него вошло в привычку откладывать в сторону интересных морских обитателей: акул, морских звезд, все, что выглядело необычным, – и когда «Нерина» заходила в порт Ист-Лондона, он тут же звонил Куртене-Латимер, чтобы та приехала и забрала образцы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
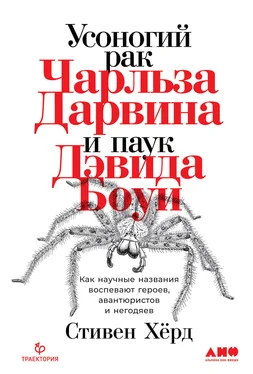

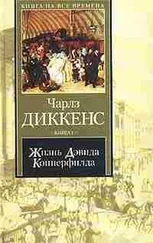
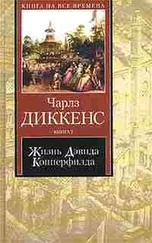
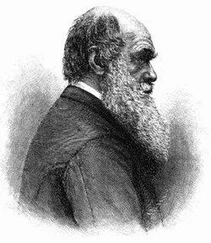
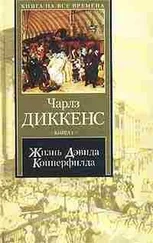
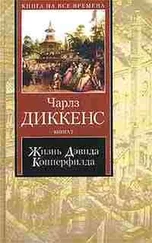
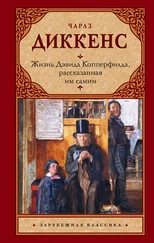
![Жан-Мишель Генассия - О влиянии Дэвида Боуи на судьбы юных созданий [litres]](/books/395058/zhan-thumb.webp)