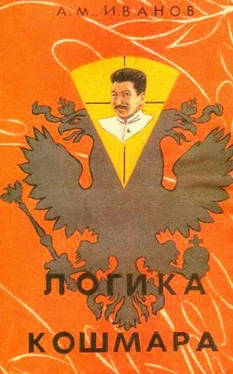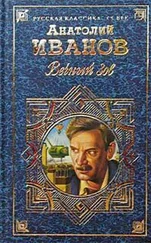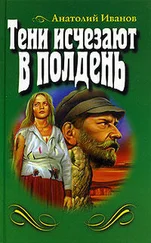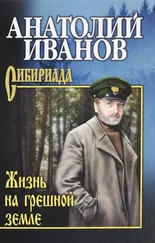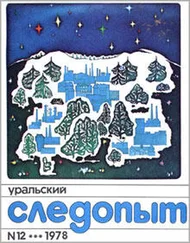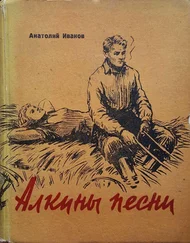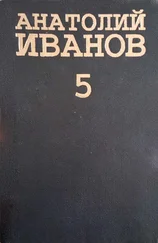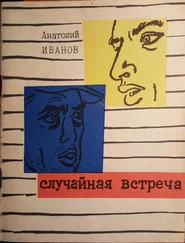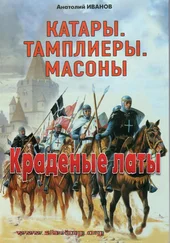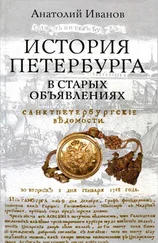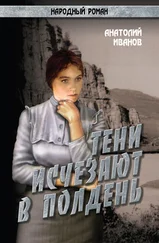Анатолий Иванов - ЛОГИКА КОШМАРА
Здесь есть возможность читать онлайн «Анатолий Иванов - ЛОГИКА КОШМАРА» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ЛОГИКА КОШМАРА
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.5 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ЛОГИКА КОШМАРА: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ЛОГИКА КОШМАРА»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
ЛОГИКА КОШМАРА — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ЛОГИКА КОШМАРА», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Организация Рютина не просуществовала и месяца, все кончилось быстро, в обычной последовательности тех лет: донос-арест. В октябре 1932 года по этому же делу поволокли целую группу молодых теоретиков из окружения Бухарина во главе с А.Слепковым и заговорили о “контрреволюционной группе Рютина-Слепкова”.
Теоретики, о которых идет речь, объединились вокруг А.Слепкова во время учебы в ИКП, впоследствии они работали в редколлегиях газеты “Правда”, журнала “Большевик” и т.п. Сам Слепков был в 20-х годах зав. агитпропом Исполкома Коминтерна и членом МК, т.е. работал вместе с Рютиным. Его ближайшим Сподвижником был Д.Марецкий, автор научной биографии Бухарина. К той же компании принадлежали А.Айхенвальд, сын известного критика, В.Астров единственный уцелевший, автор упоминавшегося романа “Круча”, П.Г.Петровский, сын председателя ЦИК Украины Г.И.Петровского и ряд других. Вместе с молодежью погорели и отставные партийные лидеры – Зиновьев, Каменев, Угланов. Одним из основных пунктов обвинения было распространение платформы Рютина.
Сталин прочел, что писал о нем Рютин, счел, что подобные оценки могут подвигнуть кого-нибудь на покушение на жизнь генсека, и потребовал на этом основании расстрела Рютина, однако встретил сопротивление со стороны своих ближайших соратников. Первым запротестовал Рудзутак, возглавлявший тогда ЦКК-РКИ. Затем на Политбюро против высшей меры выступили Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, Косиор и Калинин. Это затормозило месть Сталина: тогда Рютин получил лишь 10 лет, а расстрелян был позже, 10 января 1937 года. Вместе с ним погибли его жена и два сына, уцелела только дочь.
За делом Рютина-Слепкова последовала новая волна репрессий. Раскаявшихся, амнистированных и восстановленных в партии бывших вождей и членов левой оппозиции снова стали исключать, начав с Зиновьева и Каменева, а потом и сажать. В начале 1933 года арестовали бывшего члена ЦК И.Н.Смирнова, занимавшего тогда пост директора Горьковского автозавода, и посадили на 10 лет. другой бывший член ЦК Смилга получил 5 лет.
В январе 1933 года советских граждан обрадовали разоблачением еще одной оппозиционной группы. Во главе ее стоял уже не бывший, а действительный член ЦК Александр Петрович Смирнов, старый большевик, родом из крестьян, входивший еще в 90-х годах в Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. В 20-х годах он был наркомом земледелия, генеральным секретарем Крестьянского интернационала, секретарем ЦК и членом Оргбюро, но для коллективизации Смирнов, конечно, был фигурой неподходящей: здесь требовался Эпштейн. И Смирнова задвинули в Президиум ВСНХ, оставив, правда, в ЦК. В сговор со Смирновым вступили В.Н.Толмачев, нарком внутренних дел РСФСР, сын костромского учителя, работавший до назначения наркомом заместителем председателя Северо-Кавказского крайисполкома, и Н.Б.Эйсмонт, нарком снабжения РСФСР, по национальности, очевидно, поляк.
На пленуме ЦК, разбиравшем дело группы Смирнова, с докладом выступил Каганович. Он дал такую установку: людей, побывавших во всяких оппозициях, надо строже проверять, особенно троцкистов. Так постепенно нагнеталась напряженность, сеялась подозрительность, готовились схемы обвинения для будущих процессов.
Да, в недобрый час собрался съезд “победителей”. Голод в стране, брожение в партии, угрожающая международная обстановка. Всего за год до этого в Германии к власти пришел Гитлер, Япония еще в 1931 году завладела Маньчжурией. Все эти обстоятельства оказывали свое влияние на развитие событий на высшем партийном форуме.
ЗАГОВОР ПРОТИВ СТАЛИНА
Сведения о заговоре, составленном в январе 1934 года против Сталина, просочились в советскую печать в хрущевские времена. Один из членов клана Шаумянов намекнул: “Многие делегаты съезда, прежде всего те из них, кто был знаком с завещанием Ленина, считали, что наступило время переместить Сталина с поста генсека на другую работу, потому что он уверовал в свою непогрешимость начал игнорировать коллегиальность, вновь грубил” (“Правда”, 7 февраля 1964 года). Л.Шаумян не назвал никаких иг4ен. За него это сделал Р.Медведев, по словам которого на ХVII съезда образовался нелегальный блок, состоявший, в основном, из секретарей обкомов и ЦК национальных компартий. Есть сведения, что одним из руководителей этого нелегального блока был Варейкис. В генеральные секретари выдвигали Кирова. В самом начале съезда или еще до него с Кировым беседовала группа, в которую входили тот же Петровский, тот же Орджоникидзе, участники аналогичного совещания в 1925 году, а также Микоян и Орахелашвили. Киров, однако, отклонил предложенную ему честь. (Р.Медведев. к суду истории, с. 315).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ЛОГИКА КОШМАРА»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ЛОГИКА КОШМАРА» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ЛОГИКА КОШМАРА» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.