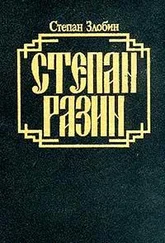Они прошли мимо дневального в здание госпиталя.
Тревога оказалась короткой, но возвращаться теперь домой через весь город было уже поздно.
Татьяна напряженно застыла на диванчике в темном вестибюле, пока Ксения Владимировна сидела возле постели мужа. Она уставилась взглядом на щелку в какой-то двери, из которой едва пробивался луч синей маскировочной лампочки, и не могла отвести глаза от этой одной точки.
Дежурный врач только после отбоя тревоги спустился к Татьяне с историей болезни Балашова в руках.
— Вот эта запись сделана рукой военврача третьего ранга Варакина. Вы узнаете его почерк? — мягко спросил он.— Возможно, что генерал его знает и помнит, но в минуты, когда писалась эта бумага, генерал Балашов был без сознания, что и записано вашим мужем. Ваш муж его спас. Мало того — он вложил в пакет и прислал самолетом, который доставил в тыл генерала, свою большую работу, чтобы другие врачи могли пользоваться его методом в очень тяжелых случаях. Он много работал над важным вопросом. Надеюсь, что он на фронте сейчас так же, как мы здесь, спасает других... Лично я Варакина знаю с финской войны. Он талантливый человек.
«Прислал с самолетом свою работу... Прислал работу, чтобы другие врачи могли... Он расстался с работой, послал ее... Значит, он не рассчитывал сам... Значит, он не надеялся...» — промелькнуло вихрем в сознании Татьяны. У нее потемнело в глазах.
— А потом, еще позже, не поступало к вам раненых с его... с этим почерком? — тяжело спросила она. — Так и не было больше оттуда совсем никого?
— Нет, больше не поступало, — ответил врач и потупился. — Да, он талантливый человек, — как эхо, повторила Татьяна. Она опустила голову на руки и так осталась без сна до утра со своими мыслями...
...Когда Балашов почувствовал, что его оторвало от немой, непроглядной бездны и, плавной зеленой волной обтекая, выносит куда-то вверх, в расплывчатый, мглистый мир, полный неясных движений, — это и было возвратом к нему ощущения бытия...
Мимо Балашова, по сторонам и навстречу ему, все гуще неслись какие-то смутные тени, может быть птиц, а может быть рыб, которые в лад движению волны махали крыльями и плавниками, извивались телами, как змеи, то наплывая совсем близко, то исчезая во мгле. Вдруг змеиная пасть всплыла перед самым его лицом и застыла, подрагивая раздвоенным языком, уставив злые стеклянные зенки в лицо Балашова. Было что-то гадливо знакомое в этой змеиной гримасе, в ее злобном, недвижном взгляде, колющем как булавка. У Балашова проснулось желание оттолкнуть ее от себя, но не было сил шевельнуть ни единым мускулом, а стеклянный змеиный взгляд упорно висел перед ним, и зубастая пасть шевелила двойным языком. Балашов застонал... Его собственный стон — это был первый звук вновь возникшего смутного и немого мира, и вдруг вслед за этим звуком бытие навалилось на его барабанные перепонки невыносимым ревом, грохотом, звоном... Так, несмотря на все ухищрения медицины, мир возвращался в сознание Балашова не покоем больничной палаты, а сонмищем фантастических призраков — злыми стеклянными глазами фашиста Кюльпе, выстрелом Острогорова, воем и взрывами авиабомб, залпами зенитных орудий, ложью, болью и чувством бессилия.
Страшной, давящей волной встал этот мир и обрушился на Балашова, бросив его еще раз в слепую, глухую бездну немой пустоты...
Все померкло вокруг, но уже не исчезло его ощущение себя. Он в наступающем мраке чувствовал себя одиноким мерцающим пятнышком света, но в нем, в этом пятнышке, уже была воля к жизни, и оно всеми силами мучительно устремлялось с черного, непроглядного дна кверху, в туманные зеленоватые волны, в смутное, но трепещущее движением царство плавучих, летучих теней. И вот опять появились над ним злые стеклянные зрачки, и широкая зубастая пасть повисла, медленно наплывая все ближе... Однако на этот раз прохладная женская рука уверенно взяла Балашова за руку и подняла из зеленой мути в мягкие волны тепла. И вот тут, с тихой радостью подняв веки, он сразу узнал лицо Ксении. А может быть даже, он почувствовал ее присутствие раньше, чем узнал, и ранее, чем увидел ее лицо.
Может быть, прежде, чем в первый раз поднял веки, он угадал прикосновение именно ее пальцев к своей руке. Может быть, именно это ее прикосновение и увело его из-под власти заново наступавших призраков. Вдруг он почувствовал тишину, и покой, и еще какое-то удивительное свечение всего бытия и чуть слышно сказал:
— Аксюта...
— Ты молчи... ты молчи... ты молчи! — волновалась она. Он замолчал. Он готов был молчать, лишь бы она не исчезла.
Читать дальше