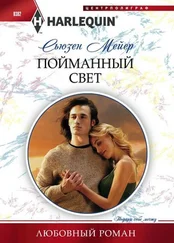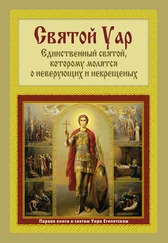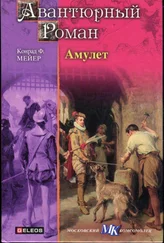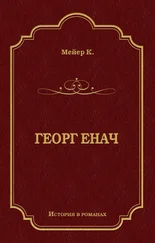– Государь, пусть отойдут от нас все посторонние, Дабы наша тайна не была никем подслушана.
Он дал знак своим монахам отойти, а король с поспешной готовностью приказал удалиться своим рыцарям, – ибо он жаждал поцелуя примирения. Я взял под уздцы обеих лошадей и отошел с ними на небольшое расстояние от короля и примаса, тогда как все прочие, монахи и рыцари, разошлись в разные стороны, пожалуй что на расстояние выстрела из лука. Тут сир Генрих уже не в силах был больше сдерживаться: вытянув губы, он приблизил свое опухшее, со следами разрушения, лицо к изможденному святому лику канцлера. Лицо моего короля было безобразно, отталкивающе, но вместе с тем столь трогательно и преисполнено такого страстного влечения, как будто сир Генрих жаждал вкусить святого причастия.
Что тут случилось, что произошло в душе канцлера, – кто может сказать это? Я полагаю, что такое сочетание безобразия и вожделения напомнило ему об убийстве его дочери Грации. Он с омерзением отвратил свои губы от короля и с ужасом остановил взгляд на лице, находившемся перед ним, словно видел в нем воплощение всяческого насилия и мерзости.
Но король в своем слепом влечении схватил канцлера за руки и стал искать его уст, покуда тот с криком ужаса не оттолкнул его от себя.
Как скоро сир Генрих с болью и гневом увидел, что примас, вопреки данному слову, не может с ним примириться, душа его ожесточилась, и у него с отчаянием вырвались слова:
– Что мне до тебя? Зачем преследуешь ты мою душу?
Канцлер же снова овладел собой, и к нему вернулась его уверенность. Он ответил со спокойным величием:
– Тебе известна, о государь, моя природа, заставляющая меня идти по стопам наиболее могущественного властелина. Я не уверен, что назареянин, которому я принадлежу и примеру которого стремлюсь подражать, мог бы себя заставить прикоснуться к твоим мерзостным губам. Он поцеловал предателя Иуду, продавшего и обрекшего на смерть его – воплощенную невинность и любовь; но поцеловал ли бы он губы, отравившие душу его ребенка и сгубившие его невинное тело, – в этом я сомневаюсь. И так как он к тому же еще и бог, – как учит церковь, – то простить без тяжкой и полной меры наказания зарезавшему его овцу он не может, ибо нельзя ему отречься от самого себя, то есть от справедливости, составляющей самое его существо. А мне, не более чем человеку языческой крови, и притом вовсе не такому спокойному, каким кажусь, – как мне заставить себя свершить то, что не под силу моему учителю? И все же это должно совершиться, но только за выкуп: душа за душу. Сосредоточь свое внимание, король, выслушай меня и. поразмысли!
Видишь ли, у меня есть еще дети – твои саксы, души коих ты мне некогда доверил.
Но как пасти их изгнанному пастырю? Как могут преуспевать эти души, когда тела их составляют собственность твоих волков, твоих ненасытных баронов? С тех пор как твой предок, Завоеватель, подчинил тысячи покоренных саксов горстке железных норманнов, обездоленный люд вынужден жить на чужой земле, не принадлежащей ему. Ты увечишь мужчин за убийство какой-нибудь вредной твари, в силу твоих варварских охотничьих законов, ты угоняешь юношей и девушек далеко от солнца, с унаследованных плодородных земель, которые им бы мирно обрабатывать и населять, а ты ввергаешь их в тень монастырей.
Не препятствуй мне высказаться, выслушай меня; я хочу создать для тебя и для твоего сына, который остается при тебе, народ, – не путем завоевания и насилия, а при помощи мудрости и справедливости, я хочу покорить его кротким епископским жезлом. Я имею власть над душами, потому мне не страшны мечи твоих норманнов. В эти дни слепой ярости и грубой хитрости я все же остаюсь разумнейшим из смертных.
О мой государь, как безрассудно ты поступил, когда, желая подорвать мою власть, короновал своего сына Генриха, – да и как несправедливо! Ведь ты сам сделал меня своим примасом, и твоим примасом я останусь вовеки.
Смотри, – он вынул свиток, спрятанный на груди, – вот отлучение римского папы, которое он бросает тебе в лицо за то, что ты посягнул на права моего епископата. Это нечистое пламя, и не я накликал его на твою голову. Сейчас святой отец – наемник твоего царственного кузена во Франции, как некогда, когда я еще служил тебе, он был твоим наемником. Ты не разгадал души латинца и не вовремя поскупился на деньги. Отдайся, мой король и повелитель, снова в мои руки, и я растопчу этот продажный факел!
Я сам впоследствии откажусь от прав моего епископата, когда использую их, дабы каждому в твоем королевстве предоставить подобающее ему место и право, а для тебя – создать народ. Ибо я не холоп латинца, а слуга и брат назареянина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу