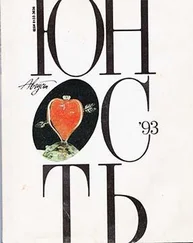– Что ты, сыночек? – поднялась навстречу воспитательница и, сообразив, сразу же подхватила меня в охапку и устроила над дежурным ведром, холодные края которого прокатились по моим ягодицам.
Потом она задержала меня около себя, еще дрожащего, и, заглянув в глаза, улыбнулась и тихонько спросила, может быть, я хочу полежать с мамочкой, ведь я ее сыночек, так?.. И действительно уложила с собой, пока все остальные спали в общей палате, и, обняв ее, я согрелся и уснул.
Совершенно особенными, благолепными были банные дни. Девочек мыли первыми – из—за возни с их длинными волосами, – и мы, мальчики, долго дожидались своей очереди на скамеечке около барака—бани, что на краю клеверного поля. Пахучий белый пар вылезал из окошка и из—под двери, а на почерневшей наружной стене проступали мельчайшие капельки влаги. Когда глянцево румяные, с блестящими глазами и туго заплетенными косами девочки высыпали на воздух, мы толкаясь спешили внутрь. И все внутри было приятно—осязаемым и возбуждающим – деревянные скользкие скамейки, влажные деревянные решетки на полу, голые стены и легкий туманец. Раздев, нас заводили в небольшую залу с шершавым цементным полом. Посреди залы помещалась широкая скамья с приготовленными жестяными шайками, полными воды, в которой плавали узкие морские губки—мочалки, обшитые белой тесьмой. Рядом с шайками были разложены кусочки темного, как воск, мыла. Из стены, словно клешни, торчали два крана – с холодной водой и кипятком. Нас отмывали и оттирали до «скрипа» – то есть до тех пор, пока волосы и кожа не начинали характерно поскрипывать, если по ним провести кончиком пальца. Когда мы возвращались обратно в предбанник, то обнаруживали, что грязная одежда уже исчезла, а вместо него появлялось сложенное аккуратными стопочками чистое белье. Это и был тот самый долгожданный момент. Я заранее мечтал увидеть свои любимые вещи и очень волновался, чтобы они оказались в определенном сочетании: черные шорты с металлическими заклепками и клетчатая черно—зеленая рубашка с погончиками, – каково же бывало мое радостное удивление, когда я непременно находил их отложенными вместе!.. И уж, конечно, я догадывался, кто именно позаботился о подборе. Только один человек мог это знать – мама.
То, что это она, должно было для всех оставаться тайной, а мне было открыто в первый же дачный день. Многие плакали и тосковали по дому, но, несомненно, мне единственному воспитательница вдруг нашептала, что я здесь буду у нее «самым любимым», ее «сыночком», – так якобы они заранее условились с моей настоящей мамой, вот в чем секрет. «Милый, сыночек!» – она усадила меня к себе на колени и вытерла слезы, пока остальные копошились вокруг. Это было чем—то вроде исключительной привилегии. Все слушались воспитательницу, всеми она командовала и за всеми присматривала, но я для нее, оказывается, был дороже всех. Мы с ней – вдвоем, а остальные – отдельно от нас. Ведь выбрала почему—то именно меня… Она прижала меня к себе, и я действительно поверил и почувствовал, что опять «сыночек», – рядом с мамой.
А когда я знал, что мама рядом, то уже не был одинок и заперт во внутреннем пространстве своего собственного т е льца. Наоборот, я как бы снова соединялся со всем внешним миром – с небом и солнцем и с рекой и летними полянами под ними.
Разомлевших после бани, с лицами и ладонями, смазанными детским кремом, нас собирали под дубом. По очереди усаживали на табурет, обертывали шею твердой накрахмаленной салфеткой с синим штампиком в углу и подстригали волосы ручной машинкой, которая сверкала и щелкала, ловко обегая наши головы. Причем каждый мог выбрать «стрижку» по вкусу – с челкой или без.
После всех гигиенических процедур мы уже умирали от голода, и нас немедленно вели обедать. В столовой нас ждал свекольно—багровый борщ, в котором расползался белоснежный ком сметаны, расплавлявшийся по краям золотистыми колечками жира, а рядом виднелся кусок разваренного мяса с тонкой прожилкой хрящика. На второе приносили стреляющую соком, хорошо обжаренную со всех сторон котлету с умасленной гречневой кашей и кругляшами соленого огурца. А на третье – стакан янтарно просвечивающего компота из сухофруктов с крошечными лиловыми грушами, изюмом, черносливом и разбухшими абрикосами.
Редкий обед можно было осилить весь целиком.
В нагрудный карман рубашки непременно вкладывался носовой платок, которым нужно было вытирать рот после еды. Я торопливо полез за ним, забыв, что положил в карман найденное в бане лезвие от безопасной бритвы. Я вспомнил о нем, только когда почувствовал, как оно глубоко прорезало подушечку указательного пальца, и, выдернув руку, увидел, что кончик пальца рассекся надвое, и из пореза быстро вырастает тяжелая, словно вишня, кровяная капля, которую я тут же подхватил губами, ощутив необыкновенный вкус собственной крови, – это было то, что заключалось внутри меня, то есть я сам, но, с другой стороны, как бы указывало на то, что я, ощутивший это, был чем—то совершенно иным – во всяком случае, не этим рассеченным пальцем и не этой кровью.
Читать дальше