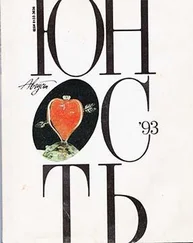Первый ужин считался праздничным. Были обещаны домашние гостинцы. Их начали разносить к чаю, но все содержимое холщовых мешочков оказалось прискорбно смешано, ссыпано в так называемый «общий котел» и тщательно поделено. Мне достался какой—то чужой, холодный пирожок, в котором оказалось даже не повидло, а капуста, приплюснутое пирожное—розочка и две «раковые шейки»… Увы, увы, я так и не узнал, что же хранилось в моем, собранном мамой красном именном мешке. Мне было лишь известно, что мама собиралась вложить в него шоколадного зайца. Я отодвинул подальше надкушенный пирог с капустой и с тоской высматривал, что попало на соседние столы. Вот он, мой заяц! Какой—то кривляка уже обгрыз ему уши и дразнил им соседей.
Завтракали чаще не в столовой, а в открытой летней беседке среди зелени. Там к нашему приходу на столиках уже ждали тарелки с манной кашей и стаканы с густым горячим какао, пенки на котором были испещрены подергивающимися морщинками. На кусках хлеба желтели кубики масла в капельках воды, а в алюминиевой кастрюле лежали сваренные вкрутую яйца. По клеенке ползли жучки и муравьишки, а возле беседки, словно приколотые к пустоте, вдруг застывали в воздухе стремительные и беззвучные золотистые медовые мухи.
Прежде чем облупить яйцо, изыскивались способы его разбить. Например, об лоб зазевавшегося соседа или же как испытание собственного мужества – о свой, – что было весьма непросто, так как для достижения успешного результата требовался резкий и решительный удар.
Более вкусным, а следовательно, предпочтительным, считался яичный белок, который объедался в первую очередь, будучи аккуратно содран с яичного ядрышка. Идеальный желток, покрытый голубоватой пленочкой, либо едва надкусывался и выбрасывался, либо целиком уносился в кармане в качестве сувенира.
Еще один род «состязания» заключался в том, чтобы, постепенно наклоняя тарелку, аккуратно подъедать уже подостывшую и загустевшую вроде желе манную кашу, которая плавно съезжала к краю, а опустевшая тарелка оставалась идеально чистой, не нужно и мыть.
Какао же просто выпивалось без остатка вместе с осевшей на дно стакана гущей. Лишь кожистая, сморщенная пенка, вызывавшая чувство гадливости, выуживалась и быстро куда—нибудь откладывалась. Может быть, в стакан тому же зазевавшемуся соседу.
Между завтраком и обедом происходило нечто загадочное. Воспитательница отзывала меня и, заведя в закуток между крыльцом и бочкой, доставала откуда—то синюю круглую железную баночку и, торопливо намазав на заранее приготовленный бутерброд с маслом слой черной зернистой икры, немедленно скармливала мне. Я с удовольствием набивал за щеки нежно—соленую снедь, которая была так вкусна, что проглатывалась как бы сама собой, и снова бежал играть.
Среди забав, открывшихся на даче, одной из странных и излюбленных было сражаться с осами. Когда в глубине двора вдруг обнаруживалось в кустах или земле осиное гнездо, мы вооружались кто чем мог и по сигналу бросались в атаку, закидывая его палками, комьями земли, песком, заливая водой, и тут же бежали прочь, спасаясь и увертываясь от разозленных ос, а затем с гордостью показывали друг другу кого куда укусило и рассматривали маленькие красноватые укусы, вздувавшиеся на коже и любовно затираемые слюной.
Почти каждый день нас водили по лесной, заброшенной и заросшей травой кривой дороге в прохладную, почти недоступную для солнца чащу, где между огромных старых елей прятались укромные ягодные места, и мы расползались по поляне, лакомясь удивительной лесной клубникой, которая даже созрев, оставалась сахарно—белой, едва розовой, – но сладости и аромата необычайных, ни с чем не сравнимых.
В одну из первых ночей мне приснился бугристый вечерний луг и золотисто—зеленый домик. Было очень тихо и спокойно. Я вошел внутрь и тогда увидел, что вверху нет крыши, – только синее вечернее небо, а на белом и гладком, словно мраморном полу извиваются и переплетаются кольцами небольшие черные змеи. Я выскочил из домика и куда—то убежал. И хотя я понимал, что бегаю—то я в любом случае быстрее, чем они ползают, однако какое—то неприятное, тягостное чувство не покидало меня, – якобы оттого, что эти змеи отличаются каким—то навязчивым упорством и медленно, но верно, может быть, потянуться за мной, как далеко бы я не убежал.
За черными окнами просторной спальной палаты, застекленной, как летняя веранда, стояло ровное ночное стрекотание, а я лежал в полусне, скрючившись под одеялом и старался отвлечься и перетерпеть распиравшие живот приступы, которые нарастали и делались все мучительнее. Дощатая уборная над оврагам была где—то бесконечно далеко, в глухой ночной мгле. Нельзя было и мечтать добраться туда. Столь же невозможным казалось нарушить сонную тишину, окликнуть нянечку или, поднявшись, самому пойти к ней. Чувствуя, как лоб и ладони покрываются маслянистой испариной, я изо всех сил уговаривал живот успокоиться и сдерживал дыхание, чтобы не шевелиться и даже шорохом или скрипом кровати не обнаружить себя. Уже корчась и сплетая ноги в косу, я отчаянно звал про себя маму и, как бы надеясь последним усилием обмануть или заговорить напасть, горячо лепетал в подушку что—то вроде заклинания: «Мамочка, лапочка, рыбочка, яблочко, курочка, девочка, елочка, кошечка, звездочка…» И в этом полубреду я все—таки поднял себя из постели и между двумя рядами кроватей (для мальчиков и девочек) прошел босиком к двери, за которой виднелся слабый свет, и толкнул ее.
Читать дальше