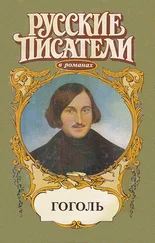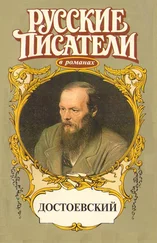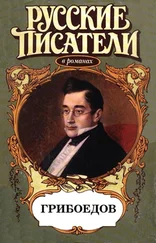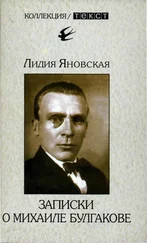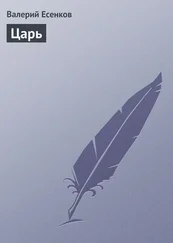– Однажды пришлось иметь дело с интеллигентом, юношей шестнадцати лет. Деникинец, бывший кадет, застрял в городе, когда пришли наши, в комячейку пролез, чтобы скрыться от нас. Конечно, разоблачили и приговорили к расстрелу. Заведомый был, убежденный, активный контрреволюционер, ни о каком снисхождении не могло быть и речи. Однако подите же вот…
Тут невероятное происходит у него на глазах. Особист как будто конфузится своих прорвавшихся с какого-то дна человеческих чувств. Голосом продолжает каким-то другим:
– У меня не хватило духу объявить приговор подсудимому…
Ах, рыцарь, рыцарь! Каково-то было тебе слушать рассказ о такой поразительно схожей судьбе? Ведь он тоже деникинец, тоже скрывается, в Лито, в Тео пролез, мандатов с круглой печатью полон карман. Обнажись на минутку или сами разоблачат, руководствуясь тем же непогрешимым чутьем, – к расстрелу на месте приговорят. И на этот раз достанет духу приговор объявить, поскольку закоренелому тридцать исполняется лет. И не дрогнет рука. Разве что ещё одну ночь не поспит. И аминь.
Так скорей бы, скорей!
И он наконец прибывает в Тифлис. Поначалу располагается широко, с присущим ему умением жить. Снимает номер в «Пале-Рояле», должно быть, мысленно уже предвкушая Париж. Вызывает Тасю к себе и отправляется по делам, то есть в местное Лито, в местное Тео. Предлагает пьесу поставить, кое-что напечатать из прозы, в местной газете, конечно, поскольку книг не издается и здесь. Всюду отказ.
Тася приезжает. Они отправляются вместе в Батум, продавши на барахолке обручальные кольца. В Батуме снимают комнату у какой-то грузинской гречанки, где их чуть не сожрали какой-то чудовищной злости клопы. Он вновь идет по отделам: проза, пьесы, хоть что-нибудь, уже решительно всё равно.
Тут выворачивается из тьмы или спускается с заснеженных гор, не представляется возможности точнее определить, совершенно фантастическая, невероятная личность, какой не может быть в натуре вещей, и заявляет решительно, заложивши ладони громадной величины за пояс, где громадный револьвер и громадный кинжал:
– Па иному пути пайдем! На нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума», «Ревизор». Гоголя. Моголя. Свои пыесы сачиним.
Прямо символ живой. Наважденье, по правде сказать. Невозможно нарочно придумать тип. Всё ещё жив, сукин сын. Бессмертный такой.
Михаил Афанасьевич символы обожает, прямо-таки жить не может без них. Однако такие? Позвольте. Да это черт знает что!
Он уже и шинель продает. Шныряет целыми днями в торговом порту. Наконец уговаривается: «Полацкий» следует в Константинополь, его спрячут в трюме, серди ящиков и тюков, а там море, море, суша, Париж!
Тасе он застенчиво говорит:
– Знаешь, может, мне удастся уехать, а ты в Москву поезжай.
Тася без восторга, но соглашается:
– Уезжай.
Он видит, что она больше не верит ему и прощается с ним навсегда. Его честнейшее сердце обливается кровью. Он говорит:
– Я тебя вызову, как всегда вызывал.
Она в ответ на его обещанье молчит.
Они продают на толкучке кожаный, старинной работы тасин баул. С вырученными деньгами Тася садится на пароход, плывущий в Одессу, поскольку никаких прямых связей с Москвой давно уже нет. Он остается один, последовательно продает одеяло и давно бесполезную керосинку.
Вдруг по улице идет Мандельштам. Женщина с ним. Должно быть, жена. Известный поэт. Ужасно старый на вид, лет шестьдесят. С таким открытым, откровенным лицом, что страшно смотреть и не возможно не подойти. Михаил Афанасьевич и подходит, пользуясь мимолетным знакомством. Напоминает убогий Владикавказ. Просит совета: вот, стало быть, написал кое-что, не послать ли на конкурс в Москву? На открытой книге лица Мандельштама тотчас видать, что поэту представляется отчего-то, что этот молодой человек, хотя они чуть-чуть не ровесники, накопил в себе столько, что не сможет уже не писать и по этой причине что-нибудь непременно напишет, а потому поэт отвечает уверенно, что конкурсы чушь, что надо ехать в Москву самому.
Ехать в Москву?.. Ехать в Москву?.. Ехать в Париж!..
От безнадежности, сомнений и голода у него уже почти бред. Он полные сутки валяется на обточенных соленой водой голышах побережья. Болит голова. Рядом море, но он не видит уже, а только слышит его: море гудит, то прихлынет, то отхлынет неторопливо волна и неприветно шипит.
Куда же ему? Мандельштам остается, известный поэт. Говорит, что в Москву. Так в Москву? Или лучше в Париж? А в Париже-то что? Разве он Бунин, Горький, Куприн? Этим дорога везде, а ему? Где он там будет ставить своих «Турбиных»? О московской сцене мечтал. Там, именно там хотел начинать. Париж-то Париж, а закрыт для него этот чертов Париж. И главнейший, стариннейший русский вопрос: русскому писателю без России не жить! Так в Москву?
Читать дальше