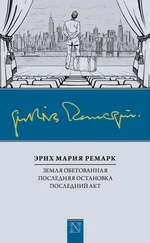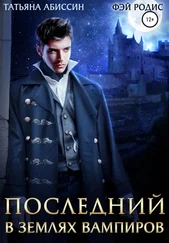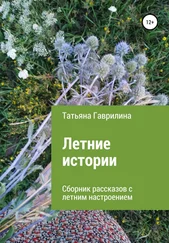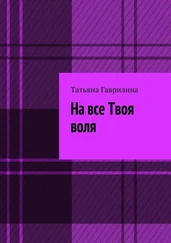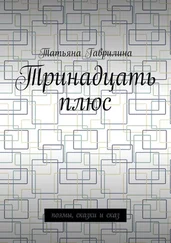Такое тесное и одновременно взаимозависимое сосуществование Церкви и Царства, когда интересы светской и духовной властей не конфликтовали между собой, а укладывались в рамки разумного компромисса, имело для общества большое значение, позволяя сохранять гражданский мир в стране. Любое государственное начинание, будь то военная компания или мирное строительство, благословленное Церковью, воспринималось народом, как Богоугодное дело, а, значит, совершить его считалось священным долгом каждого верующего гражданина.
Истории известно немало подобных примеров. Так Иван III Васильевич, собираясь завоевывать мятежный Новгород, испросил на то благословения митрополита, Александр Невский был призван Церковью – исполнить свой долг Великого князя и спасти отечество от тевтонских рыцарей. Патриарх Гермоген в тяжелейшее для страны время Великой смуты и междуцарствия первым призвал народ к национально-освободительной борьбе с польско-литовской шляхтой. И это далеко неполный перечень единомыслия и единодействия двух взаимодополняющих ветвей власти в царстве Московском. Ведь не случайно, именно иностранцы, имея возможность наблюдать устройство русской государственности со стороны и сталкиваясь с таким феноменальным явлением повсеместно, впервые образно окрестили гармоничное двоевластие Церкви и Царства – «симфонией».
Это тем более было для них удивительно, потому что на Западе глава государства был одновременно и главой церкви.
Однако с приходом к власти боярского рода Романовых – людей новых, «демократически» избранных земщиной, неподготовленных к государственному правлению, но по-хозяйски предприимчивых и ухватистых, характер отношений между Царством и Церковью резко переменился. Характер этих перемен был связан с Алексеем Михайловичем – вторым царем из династии Романовых, который, прячась за спину патриарха Никона, навязал Церкви, против ее воли, церковную реформу.
В чем состоял замысел этой реформы?
В публичном, общенародном освещении сей замысел объяснялся необходимостью унификации, приведением к единообразию церковных обрядов и богослужебных книг с греческими.
Но в действительности мотивы, побудившие Царство предпринять наступление на Церковь были куда более глубоки. И крылись они в традиционной приверженности Церкви старой «богоизбранной» династии Рюриковичей, с которой собственно и было связано становление самой Церкви.
Новая династия Романовых уже не имела того «божественного» мандата, который служил источником легитимации их власти. Выбранный Земским собранием первый Романов – Михаил Федорович имел императивный мандат, то есть его самодержавное право было ограничено выборщиками.
Устроить новую Церковь и подчинить ее Царству было главной целью затеянной Алексеем Михайловичем церковной реформы. Но провести ее бескровно Царству не удалось. Реформа привела Церковь к расколу и на Руси, как в жуткие времена мракобесия, запылали костры инквизиции.
Сын Алексея Михайловича – Петр Алексеевич продвинулся в реакции против Церкви еще дальше. В царствование Петра Первого Церковь лишилась патриаршего престола.
Но, разрушая «симфонию» двоевластия в стране, которая зиждилась на разумном взаимодействии духовной и светской власти, династия Романовых отвратила от себя народ. Антихристом и самозванцем называли великого императора Петра I в народе.
И чем сильнее закреплялась в обществе эта мысль, тем ожесточеннее становилось гражданское сопротивление. Все царствование Петра – от первого и до последнего дня – сопровождалось кровавыми бунтами, мощными народными восстаниями, тайными заговорами и иными формами социального протеста. Реки пролитой крови, сотни тысяч человеческих жизней устилали дорогу Петра к установлению в стране режима абсолютного монаршего деспотизма. По приблизительным данным за годы правления отца и сына Романовых население одной только Астраханской губернии сократилось примерно на 40%, в то время как в страшные годы опричнины, учиненной Иваном Грозным, в государстве погибло немногим более 4 тысяч человек.
Недовольство политикой Петра Первого, приобретая все более широкий размах, охватило и верхние эшелоны власти великого княжества Московского, в недрах которого сформировалась и набирала силу скрытая и устойчивая оппозиция. В нее вошли многие представители родовитой старомосковской знати, отдельные представители царской семьи и радикально настроенное духовенство. В надежде установить в стране былые, исконно русские порядки, а вместе с ними и уравновесить возникшее нестроение в отношениях между Царством и Церковью, оппозиция, ожидая скорой смерти царя, сделала ставку на его сына от первого брака с Евдокией Лопухиной – царевича Алексея Петровича. Именно Лопухины, подчинив Алексея своему влиянию и авторитету, и стали тем самым центром притяжения, к которому потянулись многие из тех, в ком душевная боль по утрате старозаветной Руси была особенно невыносима. Хотя, справедливости ради, следует заметить, что присутствовал в намерениях каждого из заговорщиков и корыстный мотив! Боярство мечтало о возвращении отнятой у него Петром власти, знать – о сохранении накопленного богатства, духовенство – о бесконтрольной и полновластной самостоятельности, а Лопухины – об удержании и закреплении за собой главенствующих позиций при дворе.
Читать дальше
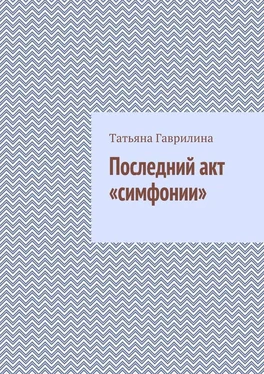
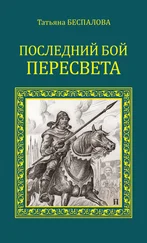

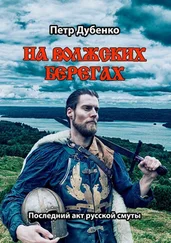
![Татьяна Богатырева - Последний Ковчег [litres]](/books/436801/tatyana-bogatyreva-poslednij-kovcheg-litres-thumb.webp)