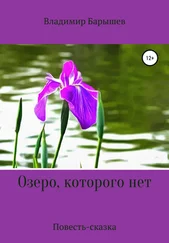– Я уж не знаю, радоваться мне этому или горевать?
– Да нет! Я – в смысле, что вы из одного времени с моим отцом и могли бы встречаться в местной пивнушке. Мой фатер был красавец! Посмотрите на меня… – она повернулась в профиль. – Блеск… и нищета куртизанок! Разве можно жить в наше время с такой красотой… Отец исчез куда-то, лет двадцать назад: пропал, как с белых яблонь дым. И мать вышла замуж за страшного еврея: не в том смысле, что он был страшен внешне, а в том смысле, что он был страшным евреем. Он никогда и нигде не работал. Говорил: «Где вы видели работающего еврея?» И, тем не менее, у него всегда были деньги. Он регулярно обходил знакомых евреев и занимал у них деньги. Евреи говорили: «Фима, верни деньги!» И тогда начиналось итальянское кино. Неореализм! Фима хватался за голову цепкими руками и трагически заявлял: «Я приготовил ваши деньги – всю сумму – и хотел их отдать, но по рассеянности забыл их на камине». У нас никогда и камина-то не было: печка-голландка, одна на две комнаты… Но одевал он меня всегда с иголочки, а на столе не переводился балык и чёрная икра. А маму он любил до истерики… Я была самая счастливая девочка в нашем переулке! Они уехали в Канаду: он открыл там придорожную притонную забегаловку и набрал в обслугу молодых хохлушек.
– А мама?
– Мама звонила неделю назад – купается в бассейне с молодыми неграми и хохочет…
Иван Егорович вышел из больницы и ждал очереди на операцию.
Я взял отпуск и теперь могу на целый месяц забыть про свою охрану на Авторемонтном заводе.
Вета уволилась из театра, где она работала художником.
Подтаяло. День был пасмурный. В посёлке с покатых крыш с шумом сползали громадины снега. Я сбрасывал снег с крыши сарая, а Иван Егорович сидел на крыльце на старинном чёрном стуле и покуривал трубочку. От дыма пахло молодой вишней…
Колокольчик звякнул, хлопнула калитка и появилась Вета: в одной руке сумки, а в другой веточки вербы.
– Слезайте с крыш, господа снегосбрасыватели, и идите скорее сюда!
Прошёл только один месяц с момента знакомства с Иваном Егоровичем и с Ветой, а как изменился мой мир и как изменился я сам! Теперь мне было что терять! От одной этой мысли становилось тревожно и радостно. Находясь рядом с этим пожилым человеком, находясь рядом с этой молодой женщиной, я чувствовал себя в середине сообщества: в моей жизни появилось что-то настоящее, дорогое мне и даже таинственное.
Вета протянула веточки Ивану Егоровичу:
– Маленькие зайчики спрятались на ветке!
– Вот, так вот и рождаются стихи и сказки, – улыбнулся Иван Егорович.
Было вербное воскресенье.
– Некоторые критики того времени, – сказал Иван Егорович, – заявляли, что Бунин был эпигоном. Эпигоном Тургенева и Толстого. У Андре Моруа есть замечательное место в книге «Портреты» о мастерстве Тургенева. – Он взял книгу. Полистал.
– Вот, нашёл! «Но, если Тургенев реалист в изображении деталей, он великий художник в умении эти детали отобрать. Поль Бурже слышал однажды у Тэна, как Тургенев резюмировал свою теорию искусства описания. Описательный талант заключается, по его мнению, в умении отобрать значимую деталь. Он считал необходимым, чтобы описание всегда было косвенным и больше ПОДСКАЗЫВАЛО, чем ПОКАЗЫВАЛО. Таковы были его собственные формулировки, и он с восторгом цитировал одно место у Толстого, где писатель даёт ощутить тишину прекрасной ночи на берегу реки благодаря только одной детали: «Взлетает летучая мышь, и слышно шуршание соприкасающихся кончиков её крыльев…» Тургеневские описания неизменно полны такого рода деталей. Вот, прежде всего, «Степной король Лир», описание сентябрьского леса: «Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивает по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву – падал навсегда: он уже не шелохнётся, пока не истлеет…»
– А вот у Чехова люди тоже совсем живые, – встрепенулась Вета. – «Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстёгивал все пуговицы своего пиджака, и опять их застёгивал, и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус…» А ведь Антон Павлович Чехов в рассказе «Попрыгунья» в образе доктора Коростелёва изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Как точно показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту.
Читать дальше
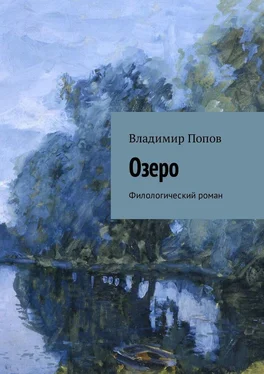
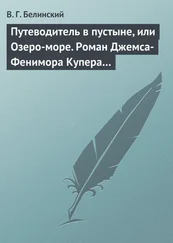
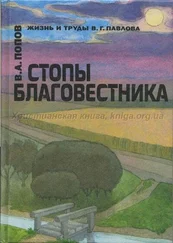

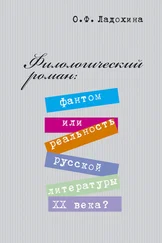
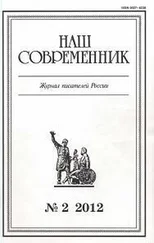
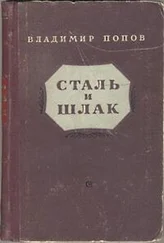
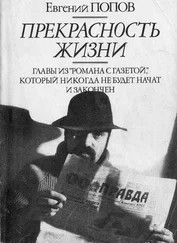
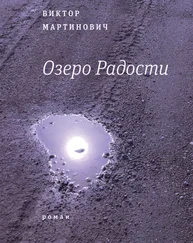
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)