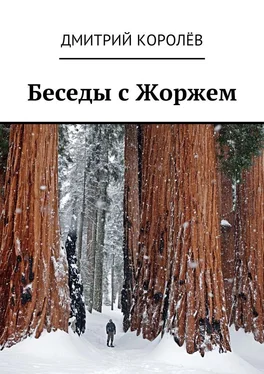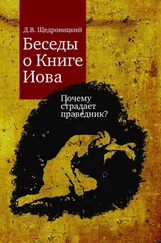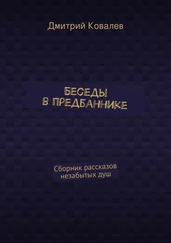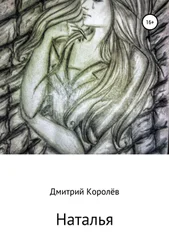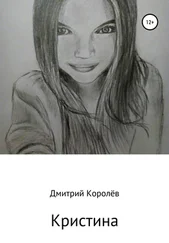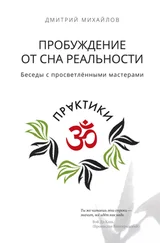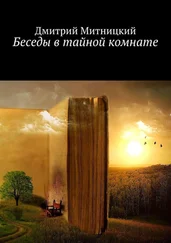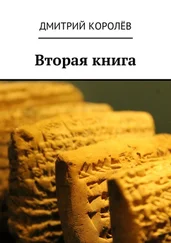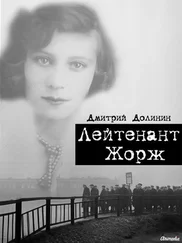Больше всего на свете нужно бояться зависимости. Другое дело, что избежать её нельзя. Мне наскучило общество столь осведомлённого собеседника, своим знанием переворачивающего мои представления о прошлом, о людях и о себе. Захотелось поскорее закончить разговор, и сделать это оказалось несложно:
– Огромное вам спасибо, но я должен бежать. Нужно ещё закончить с бумагами, а в офисе дел невпроворот.
На этом мы и разошлись. Я нашёл Ирининскую улицу, и там передал документы, пройдя сквозь формальную процедуру и не слишком об этом задумываясь. Не беспокоили меня ни слова случайных людей посреди сегодняшних встреч, ни представления о прошлом, которые немного всегда приходится корректировать, ни пробки на дорогах, ни навязчивое желание однажды как следует выспаться. По-настоящему волновало меня только будущее.
Маленькое и скромное студенческое кафе «Ромашка» хорошо спрятано от непосвящённых глаз в кустах сирени, шуме двух дорог и в полном равнодушии к окружающему миру: пусть многие рестораны и клубы вкладывают немалые силы в создание хотя бы иллюзии собственной атмосферы, здесь, похоже, это произошло само по себе. Солнце давно перешагнуло за полдень. Оно устремилось вдаль, сквозь просветы между вершинами зданий, над холодными и пустыми скверами, над лесами, застывшими в попытке до него дотянуться, над покрытыми льдом реками. Вдаль, над устеленными снегом болотами, полями и холмами, и, будто делая широкий шаг, за протяжённым берегом, ныряющим в море, одной ногой проваливается сквозь туман Британских островов. Роняя лучи на континент и его осколки, цепляясь за крыши домов и оглядываясь на прохожих, оно осталось где-то там, за пределами помещения, за кисейными занавесками, отделяющими свет от суеты, вне укромной комнатушки, где я уединился со своим обедом, зная, что иногда стены – лучший собеседник, не уступающий в основательности ни торопливому светилу, ни холмам, ни ветру. Простенькие обои, когда-то скрадывавшие почтенный возраст всегда холодного бетона, теперь и сами принадлежат времени, сливаясь с рельефом стен и плавно переходя в побелку бледно-жёлтого потолка. Ни шаткие стулья, ни отсутствие скатерти поверх длинного стола не нарушают гармонию вещей, соединённых человеческим теплом, будто они увлекаются течением мысли, и я говорю не с собой, а со словами, молчаливо отпущенными на волю. Обойдя пересечённый ландшафт четырёх сторон прямоугольной вселенной и не найдя выхода наружу, отражаясь в геометрическом узоре обоев, слова так и блуждают в замкнутом пространстве, оставляя чуть заметный дымчатый след. Было накурено. Пахло жжёным кофе.
«Мозг устроен очень просто, – вспоминал я слова Жоржа, которыми он охотно когда-то делился в этой же комнате, перемежая разговор щёлканьем портсигара, движением пивных бокалов и фисташек, – одна только проблема – попытка его построить приведёт к банальному конструированию человека, с руками и ногами, плюс необходимость воспитания и обучения. Но эта задача давно решена эволюцией и цивилизацией. Впрочем, имейте в виду следующее. Любой сигнал, который поступает на рецепторы органов чувств, будь то простая вспышка света, звуковое колебание или более сложная информация о движущихся предметах, об объектах, требующих узнавания и прогноза траектории, либо семантически насыщенные речь или текст, преобразуется в электрический ток и проходит по нейронным цепям с целью быть распознанным, обработанным, доказанным, согласованным этой предикативной машиной. Для сигнала простой структуры достаточно одного или нескольких повторений: отличать свет от тьмы умеют весьма примитивные формы жизни. Кстати говоря, и такой prima facie 35 35 На первый взгляд (лат.).
сложный орган чувств, как глаз, – тут г-н Павленко, прищурившись, хитро глянул сквозь стекло бокала, – возник независимо у разных видов животных, причём и у весьма примитивных; это свидетельствует о его принципиальной простоте. На примере глаза удобно рассматривать усложнение реакции мозга на сигнал с увеличением значимости адекватной реакции на внешний раздражитель и соответствующим ростом (со сменой поколений) вычислительной мощи нейронной сети. Предположим, какому-нибудь морскому огурцу с наступлением ночи следует погружаться вглубь воды ради надобности, ведомой ему одному, а с рассветом подниматься на поверхность, чтобы греться на солнышке. Но вот, прошли миллионы лет, и, скажем, климат немного изменился, и теперь огурец, плавая весь день под лучами ослепительного (в переносном, конечно, смысле) солнца попросту поджаривается, заболевает и вообще перестаёт быть. В конце концов выживают те, кто приспособился различать силу света, то есть обрёл некий прообраз органа зрения. – Жорж любил примеры, смеющиеся над инерцией мышления: оттолкнувшись от невероятности, через них нужно перепрыгивать и спешить дальше за нитью рассуждения. Насколько мне известно, морские огурцы преспокойно обходятся без глаз и в нашу неспокойную эпоху переменчивого климата. – Так вот, коллега, вообразите, что между этим существом, похожим на шланг, и вами как представителем homo sapiens разместилась пропасть. В интеллектуальном, разумеется, плане. Вам нужно решать задачу визуального, фонического и так далее распознавания, чтобы не обжечься горячим кофе или не принять пивной бокал за хорошенькую девушку, нужно выработать критерии „хорошо/плохо“ для всевозможных сигналов, поступающих в мозг, чтобы, к примеру, не есть несвежие бисквиты или прогорклый арахис. Однако это – лишь поверхностная реакция. Самое интересное происходит, когда сигнал настолько сложен, что поиск нужной реакции, хоть и даёт некоторый приближённый ответ, всё же не прекращается, но продолжает циркулировать едва заметным контуром. Человек однажды задаётся вопросом: „Кто я?“ – и с тех пор круженье мыслей не останавливается, личность в этом и состоит».
Читать дальше