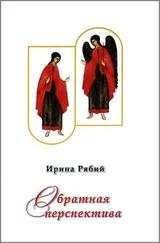Жизнь проходила, в общем-то, как обычно, слегка прихрамывая от аванса к получке и обратно. Завтрак он и всегда сам подогревал, обедал на работе, только с ужином приходилось сложнее. Но когда догадался готовить его по принципу завтрака, и тут наладилось. Правда, кое-какие неудобства оставались, которые он понимал . И лишь позднее понял, что не чувствует .
Стало странно. В том месте, где по топографии чувств должно было свербеть и сжиматься до головокружения, зияла дыра.
Борболин пытался вспомнить: в последний раз жена болела – зима, а ей мороженого захотелось; осенью ездили за город, красиво.
Все не то. Даже какие-то интимности ничего сильного не возвращали. Колыхнулось что-то, но как бы сбоку и словно не совсем о нем.
Книги объяснения не давали. Дела героев в таких случаях шли из рук вон, вплоть до наложения на себя рук. В плоть их входила смертельная тоска, а следом и кусочек свинца. В самом бескровном варианте злодей испытывал злобную радость. Некто совсем уж немужественный ощущал облегчение. А тут – ничего, что само по себе настораживало.
Борболин решил, что лучше всего посоветоваться с живым человеком. Хоть вот с Жибруновым – умный, острый. Рассказать не прямо о себе, а так, мол, и так, один знакомый… В плане психологической задачки: а ты что думаешь?
Получив аванс, он предложил Жибрунову пойти в ресторан. Тот отнекивался – слишком дорого, лучше уж взять бутылочку и так, где-нибудь. Но Борболину обязательно хотелось нейтральной территории и располагающей ресторанной ауры.
– О деньгах не беспокойся, деньги есть. – И брякнул, не подумав: – У меня жена ушла.
Он не собирался этого говорить, само вырвалось, чтоб доказать – действительно есть деньги, но Жибрунов уже поймал – лицо стало сдержанно-трагическим – и не мог больше отказываться.
Беседа долго, рюмки три, не клеилась. Жибрунов серьезно, с пониманием, молчал, а Борболину неловко было заводить свой разговор под его внимательным сочувствующим взглядом. Ну вот, и все так глупо, думал он, так со мной и должно быть. Пригласишь человека, а поговорить и никак. Он чувствовал неудобство, какая-то щетинка колола сквозь подкладку их молчание.
Жена была права, когда ругала, что он мало разговаривает с нею.
– Женщина всегда права, – поддержал Жибрунов, и Борболин не удивился его вмешательству в мысли.
– Да, да! – подхватил он. – Но ведь и не совсем, а?
– Конечно. Все дело в уровне: на своем она права безусловно, а приподними планку…
– Вот-вот! Уровень, точка зрения…
– Но в том-то и дело, что всегда приходится общаться с женщиной на ее уровне. Заведомо проигранная ситуация. Так крепко стоят они на земле.
– Еще бы. А у нас-то, на том уровне, такой точки опоры нет. Но ведь и им нельзя же так.
– Ну, тут природа. Даже вот смещенный центр тяжести… – Жибрунов налил.
– А самое страшное, – застыв взглядом на поднятой рюмке, Борболин сморщился в древнегреческую маску, – что я ничего не чувствую. Ничего. – Рука его кочегарно забросила жидкость из рюмки в рот. Маска сменилась на другую, из финальной сцены. – Понимаешь?
Жибрунов на выдохе кивнул. Еще бы он не понимал!
Как хорошо все-таки, что бы там невнятное ни крылось за обозримым горизонтом, когда здесь, рядом, тебя кто-то понимает.
– Но – ни слова. – Борболин переживал катарсис. – Она – замечательная женщина.
– Женщина… – не совсем точным эхом отозвался Жибрунов.
– Нет, ты не прав, – осмелел Борболин. – Я не потому, что выпил. Она действительно…
– Да я знаю. Редкая жена.
Жибрунов вздохнул, приподняв плечи. Он уже подустал, скованный необходимостью попадать в блуждающую десятку, и с облегчением услышал:
– Ладно. Все. Почитай лучше что-нибудь.
Борболин оперся щекой о кулак. От «не жалею, не зову, не плачу» подкатывали слезы, но «упоение в бою и бездны мрачной на краю» высушивало их мужественным огнем.
– Да… – вздыхал Борболин («На свете счастья нет…»). – Точно…
– Не огорчайся, Коля. – Жибрунов накрыл его руку ладонью. – Как говорил Толстой, все образуется.
Борболин обмяк, тепло и необыкновенно стало, что его назвали по имени. Он привык даже от жены слышать бульканье своей фамилии, а имя прозвучало так нежно, ласково. Он умилился собеседнику и самому себе.
– Будет и на нашей улице… – и, чтоб не заплакать, сгреб в кулак фужер. Фужер ожил, но не долго мог вынести это непривычное стеклу агрегатное состояние. Жибрунов подобрал осколки и попытался спрятать их в карман.
Читать дальше