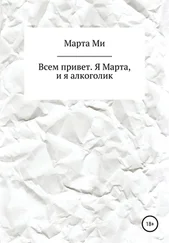И только аромат цветущих роз —
Летучий пленник, запертый в стекле, —
Напоминает в стужу и мороз
О том, что лето было на земле.
Леон читал этот сонет впервые, когда ей было пять; она ничего не понимала – все слова звучали как заклинание, прежде неизвестное. Она верила – так Леон говорит со своим Богом. Он у Леона другой. У всех один, а у него – другой. Вот какой странный язык у этого Бога, и только Леон его понимает. Потом Леон научил и Лени понимать. Но звучавший как молитва и заклинание у Шекспира, у других этот язык становился диким, как наречие какого-нибудь африканского племени. «Здесь тоже по-английски», – отвечал брат, когда Лени приносила книжку с похожими на шекспировские буквами, но никак не звучащими. «Нет, ты не слышишь! – возмущалась Лени. – Это совсем другой язык». И брат обнаруживал книгу в мусорном ведре. Скоро английские книги стали запирать – все, кроме Шекспира. Лени входила в комнату брата, бросала взгляд на портрет того, кого зовут Шекспир, который есть хранитель и дух семьи, и Бог, – а потом на тома книг. Девочка перечитывала взглядом все корешки, тревожась, не исчез ли какой-нибудь том. Если одного не было, вскрикивала: «Леон, моё сердце сейчас не выдержит!» (она помнила, что самое большое горе в их доме называлось «сердце не выдержало»), и Леон понимал, в чём дело – тут же указывал жестом на письменный стол или кровать, где лежала книга. И тогда Лени махала рукой, как если бы хотела добавить себе воздуху, и с облегчением выдыхала: всё в порядке.
Аромат, может быть, и можно запереть в колбу, но что делать с нашей ситуацией, Леон?… Что сделать, чтобы оставить тебя навсегда? Для других – неважно. Для меня. Пусть для мамы… В каком саркофаге могла бы сохраниться твоя душа?.. Я должна её распознать…
Лени морщится, наталкиваясь взглядом на приготовленный воскресный костюм, решительно убирает его в шкаф, а потом находит среди идеально уложенного белья любимую пижаму брата. Лени облачается – утопает… кутается, подбирает штанины, закатывает рукава. Валится на кровать, зарываясь под одеяло, и отдаётся памяти, как волнам обессиливший пловец…
Однажды Леон пришёл поздно ночью. Были каникулы; в такую пору он позволял себе больше обычного: больше веселья, беззаботности, развлечений. Правда, в тот день развлечения имели горький вкус: подруга оставила его. «Просто разлюбила, так бывает», – говорил Леон. «Зачем тебе девушка? – спрашивала Лени. – Ведь у тебя есть я…» В ответ он обнимал младшую сестру, целовал её в висок, бормотал что-то вроде «вырастешь – поймёшь». Положим, она уже и тогда выросла – ей было тринадцать, и она, конечно, напоминала Леону, скольки лет Джульетту отдавали замуж, прибавляя, что речь вовсе не о том.
В ту ночь Лени ждала брата в его комнате, в его большой кровати, читая «Гамлета» и от всего сердца Гамлета ненавидя. Лени готовила речь, чтобы обрушить её на Леона. Кто этот Гамлет? Слепец – и ничего больше. Он смотрит в её глаза – и не видит. Скажи, что он должен видеть в её глазах? Любовь? Нет! Он должен видеть себя! Он, всегда он отражается в её блестящих зрачках, на что бы Офелия ни смотрела…
Лени чувствует: её сгребают в плотные объятия; обдаёт удушливый запах крепкого алкоголя. «Гамлет» оставлен – книга вот: на краешке кровати, герой уходит стремительно, так что Лени видит только его спину и знает, что он ухмыляется; да, она чувствует ухмылку сквозь его тёмную спину; ненависть уплывает, как тот газ, в воздух, в открытое окно – уже и следа нет. Теперь дрожь, дрожь поднимается из самой глубины, оттуда, что и назвать невозможно – чему нет названия, и докатывается волной, и обдаёт, а потом – назад. И раз за разом нахлёстывает сильнее, и вот уже невозможно отскочить, отвратить себя, и Лени уже прочно втянута в игру волн. Она замирает, как замирают перед тем, как прыгнуть в пропасть, – когда прыжок неизбежен. Она жмурится изо всех сил, приготовляя себя к удару о воду, затем сразу к погружению – бесконечному, бесконечному…
Такое она переживала во сне – никак не достигала дна; летела, летела, и так же было жутко, но и любопытно: что потом?.. И океан или море становились то жемчужной раковиной, то цветком лотоса, вбирая Лени; то Лени оказывалась верхом и едва могла удержаться, когда вода оборачивалась панцирем гигантской черепахи; или река, темнея и сужаясь, приобретала образ угря, чёрного, извивающегося, скользкого, унося Лени в глубину другой воды со страшной скоростью; потом Лени снова падала в воду, и вода снова заверчивалась раковиной… И тошнота подступала от этого неостановимого верчения… И нельзя было сказать, что сильнее владело ею – смертельный страх или страшное наслаждение. Она думала, пребывать ей в этом состоянии вечно.
Читать дальше