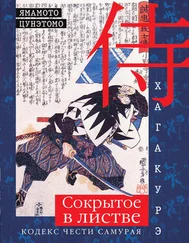Мы стали бы прекрасной парой. Мы были молоды, красивы, полны сил и веры в светлые идеалы. Между нами всегда было что-то, что заставляло наши сердца биться чаще, едва мы оставались наедине. Но наша работа и то время, когда в воздухе застыло ожидание войны, вынуждали нас быть жестокими к самим себе. Привычки, желания, привязанности, искренние эмоции были непозволительны; любое напряжение нерва грозило прорваться на поверхность, обнажить перед врагом наши слабые места, изъяны, удар по которым был способен сломить нас, поставить под угрозу существование группы и, в конечном счёте, миллионов людей. Я хорошо помню, как мы прощались в тот вечер: не коснулись друг друга, не взглянули. Ты сказала не провожать, и мы оба растворились в метро, унося каждый в себе тоску по несбывшемуся.
Следующим утром меня уже не было в стране. Сейчас, сквозь годы, я понимаю, что билось в тебе – страстное желание быть любимой. Мне стоило это понять ещё тогда, когда куранты гулко отмеряли конец наших истинных жизней. Ещё тогда мне стоило вырваться усилием воли из цепей обязательств и правил, обнять тебя и больше никогда не выпускать. Должно быть, в тот вечер в центре Москвы мы оба понимали, что готовит для нас предстоящая игра: годы в слабом свете надежды на самое обыденное счастье – любить. Ты не сдалась. Иначе не пошла бы на это немыслимое нарушение строжайших приказов – самовольно посылать карточку.
Я сжёг твоё послание. Особой надобности в этом не было. Это больше привычка – не оставлять следов. Через некоторое время в моём доме появились трое. Сухой стук каблуков их лакированных туфель поставил точку в многолетней игре. Я говорил с ними, сидя за столом в гостиной, пуская к потолку кольца папиросного дыма. Я был спокоен. Мы их переиграли. Курьер, я в первый и последний раз встречался с ним в порту возле трапа пассажирского лайнера, на который у него был билет, уже несколько дней хаживал по тихим московским улочкам, не подозревая, что страницы невинного сборника поэзии, который он передал тебе, испещрены невидимыми чертежами самого разрушительного оружия. Это был наш триумф. Трагедией он обернулся много позже – с первыми испытаниями, заставившими мир содрогнуться от ужаса, но тогда мы ещё верили в светлые идеалы, на алтарь которых положили наши жизни.
Признаюсь, я мог выдумать нашу любовь, увидеть сквозь призму лет в том вечере то, чему на самом деле не было места. Открытка могла оказаться первой попавшейся тебе под руку. Да и с чего я взял, что это твой почерк? Ведь я много лет не видел его. Но, поверь, память о том мгновении, что я провёл рядом с тобой холодным октябрьским вечером, память о твоём коротком, полном жизни и нежности взгляде, позволили мне не пасть духом за четверть века, проведённых в заключении и полной безвестности в чужой стране, откуда я вернулся измождённым стариком.
Я пытался разыскать тебя. Но никто из оставшихся в живых «наших» ничего не знал о тебе. Поэтому теперь я отправляю по единственно известному мне адресу с открытки, что ты прислала мне когда-то, конверт со вложенной карточкой, на которой вывожу дрожащей старческой рукой: «Москва. Красная площадь. Дождь». Каждое воскресенье в шесть я жду тебя на том же месте, где я единственный раз был живой.
Ночью 13 числа месяца Мухаррам 1542 года от Хиджры (9 Сентября 2117 года по Григорианскому календарю) старик Абдульалим спустился в подвал своего дома. В темноте он на ощупь занавесил плотной тканью единственное узкое оконце, и только убедившись, что не осталось ни одной щёлки, зажёг свечу. Если бы кто-нибудь увидел как он из кучи пыльного тряпья, сваленного в углу, извлекает Книгу, обёрнутую бархатом, прислушивается, подобно вору, к бездвижной тишине, то без промедления предал бы Абдульалима суду, и тот едва ли оставил старика в живых. Но Абдульалим тысячи ночей зажигал в подвале свечу и до утренней молитвы медленно водил пальцем по узорчатым строкам, проговаривая шёпотом слова. Никто за это время не прервал его занятий.
Хоть и душили город слухи о том, что кто-то скрывает Книгу, написанную Первым Пророком на древнем языке арабов, почти стёршимся из памяти потомков; хоть и рыскали по закоулкам патрули, врываясь по ночам в дома, где едва заметно трепетал свет; хоть и была назначена халифом высокая награда тому, кто принесёт Книгу, а вместе с ней и голову прятавшего её, – никто не тревожил Абдульалима. Он слыл в городе праведником. А разве дозволено человека праведного подозревать в преступлении против веры? «Конечно, нет!» – воскликнул бы любой. Поэтому Абдульалим с окончанием ночной молитвы гасил в доме свет, а сам спускался в подвал, где забывался в чтении.
Читать дальше