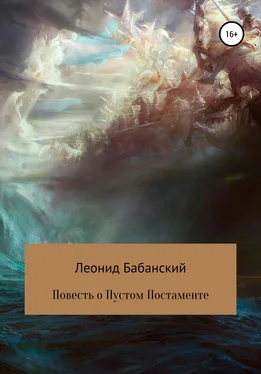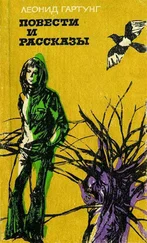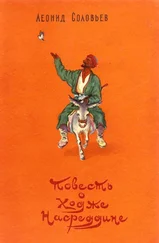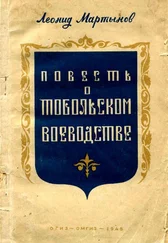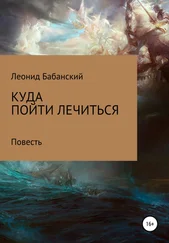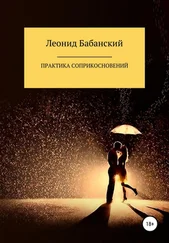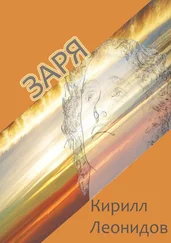Это самое начало существовало в их доме ещё несколько долгих лет, на протяжении которых батяня старательно облекал недолгие моменты общения с сыном в форму следственного разбирательства. На воспитательных допросах он полюбил демонстрировать собою пресветлый образ другого царя – Петра Первого – то ли потому, что сам был Пётр, то ли потому, что упомянутый образ отец исследовал более всего на материале одноимённого романа. Во всяком случае, его педагогика строилась довольно однообразно. Пока Лёшка вживался в роль Царевича, из комнаты в жёсткой форме удалялись женщины, ибо на Руси так заведено спокон века, что вблизи следственного таинства никаких адвокатов не должно быть и запаха. Затем Пётр Иванович утверждался за столом в позе того самого замечательного монарха, а сына устанавливал на расстоянии вытянутой руки. Потом следовал какой-либо вопрос, требующий обстоятельного объяснения. Но в самом деле ход следствия на этом этапе никаких объяснений не предполагал. Следствие предусматривало наказание само по себе. Вопрос обычно дублировался самым драматическим тоном и сопровождался полновесным ударом вдоль спины особо злым тонким брючным ремнём. Удар обычно также дублировался. При этом если не орать и стоять смирно, экзекуция прекращалась одновременно с разбором дела. В противном случае тот же вопрос мог повториться даже до четырёх раз, хотя второй любимой книгой отца был томик избранных произведений Макаренко. Когда Алексей разобрал одну-две статейки с изложением самых передовых по тому времени педагогических рекомендаций, он не впервой уже подивился тому, как его родитель, фронтовик и партиец, читает одно, говорит немного другое, а поступает уже совсем невообразимо как. Иногда ему казалось, что отец вот-вот закончит этот затянувшийся спектакль, но напрасно – отец обожал драматически-суровую следственную обстановку, по какой причине являл собой большого мастера по сгущению краски и закручиванию гайки, ради чего, по-видимому, и явился на этот свет.
По соседству с Лёшкиным домом располагалась библиотека, но в представленных изданиях не было даже намёка на ответы по некоторым волнующим юного гражданина проблемам. Почему все люди постоянно чего-то недоговаривают?
Почему побаиваются друг друга, а все вместе недолюбливают милицию – хотя должно было бы дело обстоять наоборот…Почему его папа считает, что на людях можно иметь одно человеческое лицо, а дома совсем другое? Почему есть для разговора запретные темы? Тайны оставались тайнами.
Время шло – на смену траурному репродуктору явился пластиковый обтекаемый динамик и тут же начал восторженно трепаться о неминуемых в скором времени грандиозных победах в политике и экономике. Занимался чуть ли не ренессанс – на дворе наступала шумная эпоха Хрущёва-Солженицина. Время можно было назвать весёлым: непоседливая личность руководителя, всерьёз карабкающегося на самый высокий Постамент, ежечасно порождала по нескольку изысканнейших анекдотов, если, конечно, иметь в виду всю территорию страны. Народ просто помирал со смеху, не замечая ни нищеты, ни неустроенности. Неясно было вообще, что может выйти за рамки всенародного терпения. Никитка, в подражание Учителю, карал то художников, то поэтов, то Соединённые Штаты Америки, с любой трибуны усиленно изображая Тиранозавра, а русский народ, казалось, как и прочие народы Советского Союза, руководимые с виду простой рабочей партией, постоянно был готов выдать Вождю по первому требованию некоторый процент своего населения. Интересно, знают ли вожди, особенно великие, этот процент или постоянно в поте лиц своих пытаются определить его – никто не знал. Но, несомненно, без неутолимой жажды точно реализовать эту цифру Он не стал бы истинно Великим.
Так чего ждать? Как скоро вновь начнётся поиск внутреннего супостата? Единственная партия – это всегда ненависть или не всегда? Стоило бы, конечно, максимум внимания уделить институтским наукам, но голова работала в том направлении, в котором наблюдалось наибольшее количество пробелов.
Чудные дела воцарились на белом свете. При дорогом Никите Сергеевиче научный марксизм отошёл в область эстрадной песни, в быту сохранился только марксизм партийно-деловой, то есть, буднично необходимый. Как-то само-собой коммунисты – не старики, не дети, не инвалиды, даже не женщины – стали лучшей частью населения. Иные из них исхитрились выстроить себе подлинный коммунизм и в полной мере выпить чашу его материальных благ. Жестокость и безразличие склонны были к самовоспроизводству и распространению.
Читать дальше