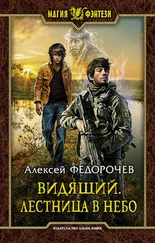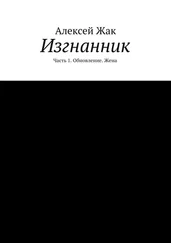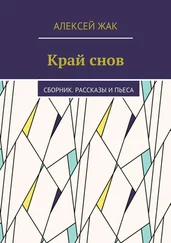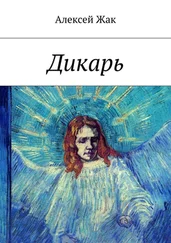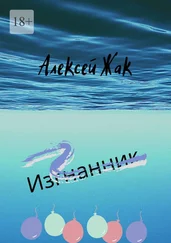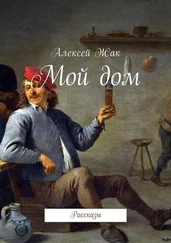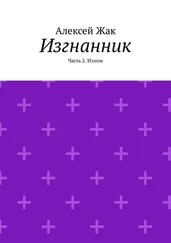Сергей нервно повертелся на холодном железном сидении и принялся дальше за своё:
– Только одним и занимался – самокопанием. Ничем другим не удосужился заняться. Ничем более полезным и выгодным. Не только для кого-то, допустим: для общества там, или для народа скажем, для постороннего человека, нуждающегося и страждущего, страдающего, вообще ни для кого ничего не сделал. За всю долгую, на редкость непоследовательную и, надо честно признаться, дрянную жизнь. Да, за такую, как у меня, – вдруг выкрикнул он в порыве раздирающих сердце чувств, – другие уже кучу подвигов совершили: открыли там страны и материки, построили дома, да что там дома, города построили… а некоторые и сожгли, например… успели… такие, как Македонский, кстати сказать. А я ничего не успел.
Да что там для кого-то! Для себя, любимого, ничегошеньки не сделал. Палец о палец в этом направлении не предпринял. Профукал всё, профуфыкал, бестолочь.
Ничего не достиг, не создал достойного, всеобщеуважаемого, подражаемого. Достойного для подражания и уважения. Как в «Мой до дыре», в сказке Чуковского: учили-учили тебя, да всё бес толку. Всё правильно: бестолочь, она и есть бестолочь. А кто ж еще? В той сказке, которую рассказывали много тыщ раз родители, а также впоследствии воспитатели, как будто и те тоже намекали, в глаз мне тыкали, а я всего-этого опять не разглядел. Будто слепой по жизни прошелся. Без поводыря – не нашел такового. Как не велика и беспредельна земля-матушка. Эх, жаль. Только вот тёр всё и тёр, да только не там тёр, а на пустом месте, как говаривала моя, родная, матушка, любительница пословиц и поговорок и употреблявшая, добавляющая их вместо любой приправы, как соль и сахар, в неограниченном количестве по любому случаю и в любой рацион. А что в результате? А ничего кроме этих самых дыр не получилось. И путного ничего из этого не вышло. М-да.
Иной раз ему на ум приходила мысль, будто на его карте судьбы кто-то начертал, неумелый и криворучка, без соответствующего опыта в жизнетворчестве, потайные спиритические знаки. Их и не разгадать без соответствующей подготовки. Но ведь насколько пророчески идеальным провидцем оказался этот гад, диву даешься, разве не так?! И ведь чуть ли не каллиграфическим почерком обозначил на ненадежной и слабо вощёной бумаге («вопил, значит, чтобы услышал я, чтобы обратил на него внимание!») кабалистические предназначения, обещавшие неизбывные и вечные страдания. А он (то есть я) опять пропустил мимо ушей его вопли. Вот ведь неслух!
– Да. Всё так, как ты говоришь. Всё правильно. В верном направлении идешь, не расстраивайся и не отчаивайся. Всё, так или иначе, подтверждает былые предчувствия, – подсказал ему однажды один умный собеседник, мудрствующий преследователь по пятам, годами диктующий образ жизни и, как будто бы, тот самый искомый идеал предсказаний. Еще один из череды давно забытых и сгинувших в вечность видений. Фантомов.
– Да, – согласился тогда Дикарев, и добавил не к селу, не к городу. – Исключения они только подтверждают правила.
Они возникли еще тогда, на берегу заснеженного Архангельска, и теперь всё оставалось, продолжало оставаться таким же, каким и было: и тогда и сейчас. Осталось, никуда не делось. По-прежнему тесным и непереносимым. Тесно, сперто в груди, даже морской воздух не помогает. И чувство такое, будто влез в пижаму не по размеру, а вылезти из неё – ну никак. Не получается, как не извивайся, как не ловчись.
Ничего, казалось, не изменилось. Как тут не поверить в судьбу и науськивающего колдуна? Всё верно. И как при этом не задуматься: «Глубоко, однако, ты, брат, влез в шкуру морского волка. Глубоко и надолго, хоть внутри у тебя ничего не изменилось. Также зудишь, чем-то недоволен. Снаружи – да. Пейзажи, микроклимат, другое. И сегодня ну опять, как назло, опять те же самые ощущения, что и прежде, хотя прошло много, очень много времени. Не один месяц, каждый из которых длинною в год».
Подобные чувства Дикарев испытывал и раньше (может быть, еще сызмальства), вообще, при любом первом знакомстве с кем-нибудь, с чем-нибудь они его захватывали, как в плен, и одолевали с непостижимой настойчивостью и упорством, будто сигнализировали о бедствии. И дело даже не в этом нынешнем, последнем его прибежище: старом, отработавшем своё давным-давно, рыболовецком траулере.
Такое настроение, как сегодня, всегда было связано с первым выходом в море, когда из-за неопределенности положения жизнь казалась не слаще пареной редьки, а настырное соседство и едва ли не родственная, навязанная через силу близость морского братства отпугивала, как домогательства извращенцев, и заставляла сторониться и замыкаться в себе.
Читать дальше
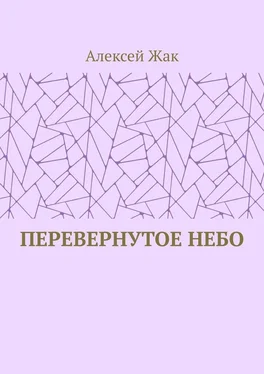
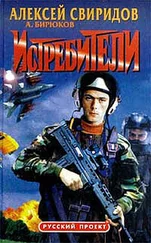
![Алексей Федорочев - Видящий. Небо на плечах [СИ]](/books/31496/aleksej-fedorochev-vidyachij-nebo-na-plechah-si-thumb.webp)