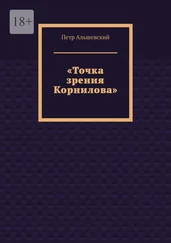– Меня привела сюда, – сказал он, – такая же, как ты. Пришел я сам, но из-за нее. Такой, как ты.
– Как я? – не поняла она.
– Но ты же, судя по всему, девочка бойкая – дай тебе волю, ты и пятерых мужиков за час заездишь. – Посмотрев ей в лицо, Алексей Таванеев не захотел опускать свой унылый взгляд куда-нибудь ниже. – Она тоже была бойкой.
– Кто она?
– Я звал ее Белочкой, – сказал Таванеев, – а она меня… я был против, но за то, что я с ней делал, она звала меня Дятлом. Тебе это действительно интересно или так, заняться нечем?
– Ты говори, я послушаю. Пока только говори, но с таким видным мужчиной мне многое интересно.
– Многое уже не ко мне.
– Что так? – улыбнулась она.
Бросая окурок мимо урны, Таванеев отдавал себе отчет, что, не считая врачей, она – последняя женщина, с которой он разговаривает в полном составе своего нездорового тела. Таванеев ее запомнит. Но вспомнит ли ее Алексей Таванеев после начала действия анестезии?
– Благодаря отношениям с одной женщиной, – сказал Алексей, – подобной тебе, но постарше, я стер его до крови…
– Ты имеешь в виду своего… бандита? – спросила она.
– Бандита? Небесспорное сравнение. Как и слова Пастернака, сказавшего о Венеции, что она напомнила ему нечто «злокачественно-темное, как помои». – Алексей Таванеев сухо прокашлялся. – Скорее не бандита, а провокатора в туповато расслабившейся банде. Расслабившейся от напряжения. Но называй его, как хочешь – он доживает свою жизнь и ему уже до лампы о чем шевелятся твои пухлые губы.
– То есть?
– Роковая оплошность, – вздохнул Таванеев, – но тогда я не обратил на рану никакого внимания, она зарубцевалась довольно быстро. Но позже началась гангрена. И теперь ее уже не остановить. Только ампутацией.
Обуглившиеся звуки аполлоновой лиры. Омовение в кипящей смоле и пропойного вида леофилы – она перестает улыбаться. Таванеев ее об этом не просил, но она же человек: она улыбнется, но не при нем же: – не сейчас.
– Так ты здесь, – сказала она, – чтобы…
– Чтобы его ампутировать. – Таванеев нервно закурил ментоловый «Salem» – Если есть желание, приходи дня через три, пообщаемся.
Через три дня, когда Алексей Таванеев снова курил на пороге больницы, она его не ждала. А он бы нашел о чем с ней пообщаться: не о пневмоударнике, но о рынке ссудных капиталов, законе Бойля-Мариотта, проблеме безработицы в Кыргызстане, египетском походе Наполеона…
Мир же огромен. И истекая кровью за разоренным амбаром в Коринфе – с угрозой не только для мужской составляющей, но и для всей жизни – мелкобуржуазный экзорцист Джорджио Симеонис нашел в себе силы открыть глаза и посмотреть невидящим взором куда-то вдаль.
– Жизнь, моя жизнь, – с трудом прошептал он, – ответь мне на один единственный вопрос. Ты меня хоть когда-нибудь… немного… любила?
Ответом ему было бескрайнее молчание, и Джорджио Симеонис равнодушно осознавал: молчание далеко не знак согласия, а вот и парламентарии смерти – они не принимают никаких других условий, кроме полной и окончательной сдачи, но жизнь меня никогда не любила, и я не буду им чрезмерно сопротивляться, здесь для меня все сложилось трудно, но там… у меня не получается предположить, кто ждет меня там, но здесь меня совсем никто не ждет, и я сдаюсь: моя белая рубашка будет мне белым флагом, она вся в крови, я не могу ее снять, но белым флагом не обязательно размахивать – они меня поймут… они близко… ко мне…
– Ко мне… – сказал Симеонис уже вслух.
Джорджио Симеонис – прапрадед Рединаи один из самых дальних родственников Всевышнего – буднично истекал кровью. Наполовину греческой и на обе половины своей.
Пятнадцатого августа 1909 года, на соломенной циновке, под декоративным каштаном – трое из четырех его детей были слабоумными. Незаслуженная победа почти не контрастирует с выстраданной.
На самого Редина поездки по полузаброшенным деревням обычно нагоняют плохо скрываемое отторжение, но тут он почему-то согласился, имея в виду свое и не выпуская из вида чужое: пригласившая его женщина была очень хороша. Красива, как утро после смерти. Не сумев назвать ничего, что не было бы заранее предопределено, они поехали под Тверь, и по приезду она бросилась заниматься неприметной суетой хозяйских приготовлений. Внемля крутому аромату подгоревших бобов и не отвлекая подуставшего Редина. Он распростерт и возвышен. Редин не враг народа.
Это народ враг ему – с рабской преданностью к отсутствию своего дела Редин начал осматриваться. Осматривался ему надоело, и Лизе от него ни слова упрека, но Редину необходима разрядка, и Елизавета Макарова, подвязав довольно крупную голову малиновой банданой, предложила ему следующее.
Читать дальше