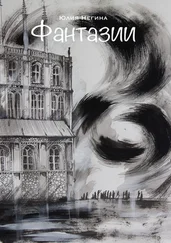Вместе с ощущением прозрения меня наполнила нестерпимая грусть, хотелось выть как по покойнику, оплакать годы, посвященные бегу по кругу, колоссальное количество энергии, потраченной впустую; нужно было, чтобы все это вымылось, вышло, чтобы мне очиститься. Я легла под дубом, как лесное животное, на теплую землю животом, и плакала, плакала, плакала, впервые за десятки лет. А потом просто лежала без сил, долго-долго, и почти уснула. Лес стоял вокруг меня ярусами, каждый ярус – в своем оттенке зеленого, солнце грело сквозь листву, на все голоса перекликались птицы. Мое лицо было на уровне стебельков травы. Я думала: вот однажды я так и останусь в земле, растворюсь в ней, и это совсем не страшно, а очень даже хорошо.
Надо мной шелестел огромный ветвистый дуб, немного кособокий, повернувшийся всеми ветками к югу. Он отвернулся от роскошной темно-зеленой сосны, поскрипывающей от качки. Землю под ним устилали остатки сгнивших за зиму желудей, редкая из-за недостатка света трава, молодые побеги завязавшихся дубков.
«Я ветка, я часть дерева, – думала я, – я смотрю на дерево, на котором я росла, а оно гнилое. Засохшее наполовину, разрубленное пополам, из ран вытекают соки, и оно продолжает терять силу. Мне стыдно, страшно, невыразимо грустно видеть его, и я борюсь с искушением снова зажмуриться, отвернуться. Но я больше не делаю этого! Я буду смотреть, чего бы мне это ни стоило, и я опишу дерево, на котором мне было суждено расцвести и скукожиться. Я произнесу вслух то, что я вижу».
Солнце уже намекало на приближение вечера, когда я встала и поехала домой. Я решила, что беру отпуск по крайней мере на неделю, и совершенно не собиралась подсчитывать, сколько денег в связи с этим потеряю. А сегодня приму душ, пойду в любимое кафе, выпью бокал вина, съем что-нибудь вкусное. Больше никаких мыслей, никаких чувств, никаких планов. Я впервые остановилась от масштабного марафонского забега длиной в полжизни. Я наконец поняла, кто приговорил меня к смерти ровно двадцать лет назад.
На следующий день я задумала написать эту книгу.
«Я напишу ее для себя и о себе, – решила я, – для того чтобы извлечь саму себя из хаоса, как скульптор высекает фигуру из каменной глыбы. Это одновременно и крик от ужаса, и выдох облегчения. Это будет хорошая история просто потому, что она правдивая. Я хочу воспользоваться правом Адама давать имена, „и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей“».
Часть I.
К центру лабиринта
Город, в котором я родилась, приучил меня жить с полузакрытыми глазами.
Я выработала скользящий, избегающий, гнушающийся задержаться взгляд, позволяющий не пораниться тотчас же, неосторожно вглядевшись. Меня оскорбляло здесь буквально все: повсеместные решетки заборов, понурые коробки, то тут то там бессистемно залатанные утеплителем, теснящиеся друг к другу вплотную, уничтожая, обесценивая то, по чему я тосковала больше всего – пространство и свет. От золота рассветов и пурпура закатов жители этого города надежно огородились дремотно-серыми стенами собственных жилищ и натужно яркими фасадами торговых центров. Разбитые дороги при каждом дожде неминуемо превращались в реки, тающий снег приобретал консистенцию соплей, обращая город в сморкающегося зануду; дождь многократно множил вездесущую жирную грязь, взвесью парящую в воздухе. Здесь не то что забыли, а будто бы никогда и не знали о красоте, совсем в ней не нуждались, из какой-то врожденной душевной нищеты довольствовались в каждом аспекте своего существования крайним, убогим минимумом. Суровая утилитарность проявлялась здесь и в прянично-нарядном туристическом центре, где за фасадами купеческих особняков сутулились дощатые одноэтажки. Когда-то этот город справедливо именовался горьким.
Я мечтала уехать, умчаться, сбежать ближе к югу, к солнцу, к морю, вырваться из уродливого города, утонувшего в пыли, где к мусорному контейнеру «Пятерочки» выстраивается очередь: «Тут нет бананового йогурта. Только персиковый. Персиковый будешь?»
Я отозвала у этого города свой кредит доверия, когда у подъездов вырубили сирень. Местные старухи – им лень подняться домой – ходят ссать в кусты, в квартирах на первом этаже невыносимо воняет из окна. Психанули. Восемь роскошных кустов разносортной сирени – мой любимый цветок весны; лиловый, белый, пурпурный… Вместе с ней и во мне что-то срубили под корень, и уже почти совсем не больно. До этого я почти все этому городу прощала: и заплатки на каждом фасаде, и когда распахали автомобильными шинами весь двор, исполосовали, превратили в непроходимую жижу, чередующуюся со зловонными болотцами незасыхающих луж, газон, где мы в детстве бегали с мячом и играли в бадминтон. И глазом не успели моргнуть, весь двор – парковка. Меня до сих пор держит здесь какая-то жестокая сила, а может, выученная беспомощность, как у лабораторной крысы, которую в клетке долго били электрическим током. Дверца давно открыта, но крыса больше и не пытается выйти.
Читать дальше