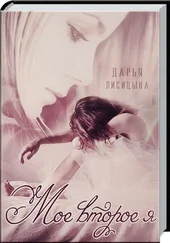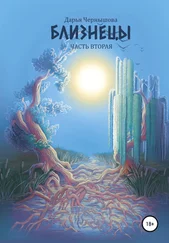– Для тебя, моя сказка, Реваз достанет все – только пальчиком пошевели, и крикнул, приставив ладони рупором к губам, – Реваз?! Ревазик!! Тот подошел, расправил усы пальцами и склонился в комическом поклоне:
– Что изволите, моя королева?
– Я мороженого хочу, – сказала Мона. – Можно?
– Пломбир? Земляничный? Ореховый? С шоколадом? Крем-брюле? – Реваз сделал вид, что записывает пожелания Моны Ли в блокнот.
– Всё, какое есть, – Мона облизнулась. Архаров встал, и, чтобы не было слышно от соседнего столика, тихо спросил Реваза, – играют? Реваз кивнул.
– Сделай девочке сладкое, будь друг, а? Я буквально на полчасика. Реваз вздохнул:
– Сандро, я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?
Мона уже съела мороженое, уже выпила чашечку шоколада, и лениво щипала виноград с кисти. Уже тихая обеденная публика сменилась вечерней, шумной, при больших, судя по всему, деньгах. Стало шумно, накурено, официанты сновали между столов, женский смех вспархивал то там, то тут, произносились тосты, а на эстраду вышли грузинские юноши, в черном, и негромко запели «а капелла». Мона, чуткая к музыке, с абсолютным слухом, буквально вытянулась – слушать, слушать! Незнакомый язык наполнял мелодию смыслом, и Мона видела белые шапки гор, цветущие долины, слышала говор ручья, бегущего между камней, видела зеленые склоны, женщину, идущую к колодцу с кувшином, видела бегущих детей, запускающих в в небо змея… Реваз, подойдя к Моне, проговорил тихо:
– Они поют «Кириалеса», это мегрельская песня, старинная.
– Как же это прекрасно, – Мона посмотрела на Реваза.
– Девочка! Ты плачешь?
– Это от радости. А где Саша, вы не знаете? – Мона Ли посмотрела на свои часики, – он должен был на съемки ехать. Про «Детский мир» она давно забыла.
– Саша? – Реваз оглядел зал, – не знаю. Вышел, наверное?
– Куда – вышел? – Мона приподнялась, – где он?
– Я не знаю, не знаю, детка … – Реваз кивнув кому-то, ушел в сторону кухни. Мона прошла между столиков, открыла дверь, вышла в коридор. Пошла, прислушиваясь к голосам. Тихо. Уткнулась в лестницу, ведущую вниз, спустилась, толкнула дверь. Заперто. Постучала. Никого. Тогда она отбила пальцами по дверному косяку мелодию песни «Сулико», слышанную только что, и дверь открыли.
– Проходи, – сказал хрипловатый голос, и она вошла. За столом сидели четверо. Архарова было трудно узнать. Абсолютно сумасшедшие глаза, дрожащие пальцы.
– Еще! – ему скинули карту. В тёмную…
– Саша? – крикнула Мона, – ты что тут делаешь?
– Бл … – Мона никогда не слышала, чтобы он ругался матом, – уйди! уйди отсюда! Кто пустил! Уведите девчонку! – он орал так, что Мона сама бросилась бежать, но не могла найти дверь. Кто-то, как и прежде, невидимый, вывел ее из комнаты, протащил за руку по коридору, потом – через зал, крепко держа локоть Моны под мышкой. Вытолкнув Мону из дверей, сказал:
– Марш отсюда, хоть слово скажешь…
– Я поняла, я поняла, – залепетала Мона и быстро пошла к станционным кассам. Зажгли фонари, и перрон выглядел совсем пустынным.
– До Москвы один, – Мона протянула мелочь кассирше, – а когда электричка? – Расписание смотри, – равнодушно ответила та и закрыла окошечко. Теплый августовский день исчезал, и стало ясно, что кончилось лето, и откуда-то задул ветер, и понеслась листва, как стайка обиженных птиц. Мона, съежившись, сидела на жёсткой станционной скамейке, и смотрела на проносящиеся к Москве и из Москвы поезда. В одних пассажиры занимали коридор, снимали вещи с полок, толпились, суетились, а в других – напротив, укладывались спать, пили чай, курили в тамбуре и брошенный окурок описывал алую дугу и падал на щебенку. Моне стало совсем тоскливо, мысль о том, что нужно ехать до Москвы, а потом в метро, и опять пересаживаться на электричку, уже – до Одинцово, так расстроила ее, что она ощутила себя одинокой, уставшей и страшно несчастной. Свистя и разрезая темноту снопом яркого света, подлетела электричка, вобрала в себя немногих пассажиров, Мона Ли прошла в вагон, села у окна, и, когда уже поезд начал набирать скорость, увидела, как на перрон выбежал Архаров, и быстро пошел, всматриваясь в мелькающие окна. Видно было, что он ищет Мону. Она отвернулась. Ненавижу его, – думала она, – ненавижу. Он ведь просто играет в меня, как в игру, я для него – красивая кукла, у которой нет сердца, которой не больно, когда ее бросают. Зачем он мне? Красивый? Ну, красивых много. Умный? Да нет. Добрый? Не то, чтобы очень. Что же я думаю о нем постоянно, я же ревную его бешено, и я хочу одного – быть с ним рядом. Спросить совета не у кого. Была бы мама жива, я бы… Мона вспомнила маму, и заплакала.
Читать дальше