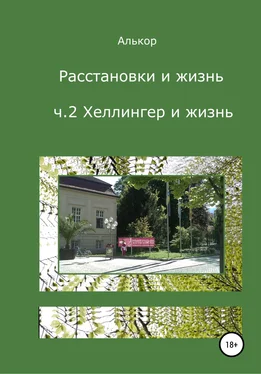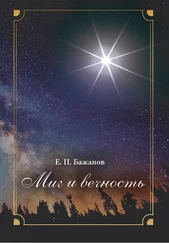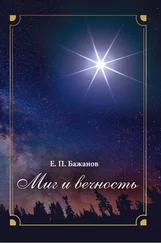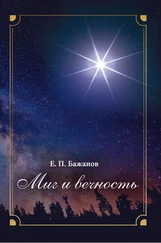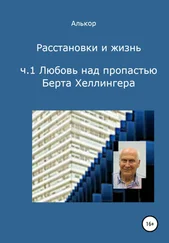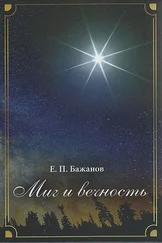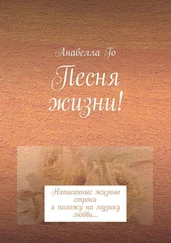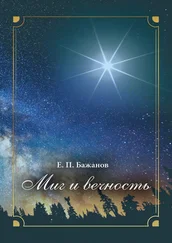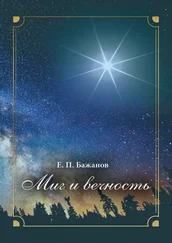«…его именем мы судим других, желаем им зла, и надеемся, что Бог совершит над ними возмездие…этот Бог не только является человечным, но и делает нас бесчеловечными…Что же остается нам, если мы хотим говорить о Боге или о Тайне, скрытой за нашим всеобщим бытием? Ничего. Только бессилие. Но именно в этом бессилии…мы становимся подлинно человечными и подлинно религиозными». 4
Хеллингер считал, что утверждать, подобно церковнослужителям, что кто-то познал замыслы и намерения Бога, и получил от Бога «личное» право обвинять и наказывать других людей- это, значит, обманывать и себя, и других, и использовать такой обман для своих личных целей. Хеллингер считал, что церковнослужители не имеют никаких преимуществ перед другими людьми; что они, как и все остальные люди, понять Бога не могут, а могут только приблизиться к его пониманию, и то,– только в том случае, если предстанут перед Ним в скромности, в благоговении, и смирении. Он полагал, что ставить себя на один уровень с Богом, а уж, тем более, ставить себя выше уровня Бога- означает уходить «в области тьмы», терять связь с реальностью, и терять любую возможность с Богом взаимодействовать.
Но те люди, которые считают, что познали замыслы Бога, книг, подобных книге Хеллингера, никогда не читают. Они даже того, что напрочь потеряли с Богом связь, никогда не осознают! Они безо всяких обиняков начинают считать себя святыми и пророками, и, в качестве «святых», начинают усиленно навязывают пастве свои собственные представления о Боге!– А паства, кстати, нисколько этому и не сопротивляется, а, напротив, во всем им верит. Почему?– Да потому что у людей есть к духовности, на самом деле, большая тяга, но люди не понимают, где эту духовность нужно искать, а потому и подпадают под влияние красивых слов и велеречивых ораторов!
Непознаваемый Бог, по мнению Хеллингера, действительно обладает некоторыми свойствами, которые приписываются ему традиционно: Он, действительно, может благоприятствовать планам человека или им препятствовать, но делает Он это, все-таки, по-иному, чем людям обычно представляется. Каждый человек, считал Хеллингер, может сам, без посредничества церковнослужителей, почувствовать то, что Бог позволяет ему делать, а чего- не позволяет; может самостоятельно сделать выбор в сторону Позволенного или Непозволенного, и может самостоятельно за свой выбор рассчитаться (или обрести награду).
Книга Хеллингера- сдержанная, глубокая, очень честная, и по-настоящему духовная книга. Она гораздо глубже Библии, и гораздо более Библии достойна того, чтобы ее читали. (Хотя современной книге, для того, чтобы ее читали, нужны не достоинства, а- соответствующая «раскрутка». Но давайте будем оптимистами, и давайте будем надеяться на то, что кто-нибудь, однажды, книгу Хеллингера «раскрутит»!)
Воистину, Хеллингер достоин того, чтобы быть канонизированным церковью,– даже учитывая то, что в последние годы жизни он с церковью никак не взаимодействовал, и что многие его постулаты церковным противоречили. Ведь подобное противоречие не помешало же православной церкви канонизировать Матронушку, которая ни церковнослужащей не была, ни благосклонностью церкви при жизни не пользовалась,– а, напротив, чрезвычайно, при жизни, церковью порицалась. У Хеллингера же шансов стать святым после смерти было даже больше, чем у Матронушки, потому что западная церковь относится к людям намного более уважительно, и намного более терпимо, чем православная.
Хотя то, как Хеллингер понимал духовность, и имело отличия от канонического христианского понимания, но даже с канонической точки зрения духовность Хеллингера вполне можно было бы признать. А признав это, можно было бы признать и то, что Хеллингер был намного духовнее священников, – даже западных, не говоря уже о тюменских.
Тюменские священники, на беглый взгляд, тоже иногда выглядят духовными, – особенно тогда, когда они находятся в людных общественных местах. В людных местах они, бывает, ведут себя настолько доброжелательно и приветливо, что- куда уж, казалось бы, лучше! Однако же горе тому человеку, который примет их доброжелательность за чистую монету, и решится побеседовать с ними с глазу на глаз! Особенно «не повезет», в этом случае, женщине!
Просто удивительно, как быстро церковнослужитель иногда может меняться, и как быстро он, оказываясь с женщиной наедине, может из «скромного» и «смиренного» превращаться в грубого, заносчивого, придирчивого, сварливого,– и, даже,– в свирепого!
Читать дальше