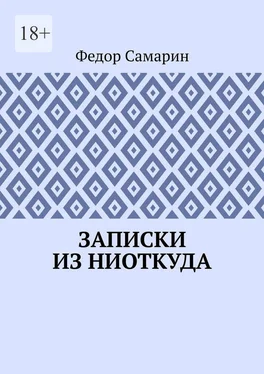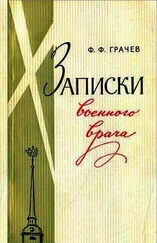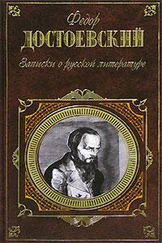За обедом читал он истории про Эркюля Пуаро, комиссара Мегрэ, про Фантомаса, а года три тому назад, совершенно неожиданно, прочел историю про дикого человека Тарзана, обнаружив, что фильм, в сравнении, однако, еще более вопиющее дерьмо. После этого обеда с Тарзаном, во рту, в ноздрях, во всем существе Павла Аркадьевича еще некоторое время сохранялся устойчивый привкус и запах вонючей, мокрой обезьяньей шерсти.
На ночь, при лимонном свете ночника, читал он, обыкновенно, «Историю искусств», засыпая всякий раз при появлении термина «прерафаэлиты». Серебристый, с тиснением и репродукциями альбом всегда был аккуратно протерт от пыли и заложен бархатной салфеткой с кисточкой. Он знал как собственный диван все эти испанские, итальянские и французские имена и фамилии; от репродукций рябило в глазах, все искусство к концу очередного абзаца сливалось у него в одну пеструю, бесконечную ленту, которая пеленала вежды, и спал он обыкновенно покойно, тихо и без снов.
По этой бесконечной ленте шествовали деревянные куклы из Пармы, жуткое распятие Чимабуэ, портрет Марии Луизы Бонапарт, солнечный календарь в Сан Доменико и мадам Самари. Иногда он останавливал этот последний кадр и, глубоко взяв в себя воздуху, пытался спиной запрыгнуть внутрь картины: мгновенно будто бы обволакивал его запах арабских духов от платья мадам Самари, и тени под лодками на Сене переливались и всплескивали зыбкими огнями, и стоило больших трудов представить себе момент, когда картина начинала всасывать в себя. Особенно часто нырял он в пейзаж Франческо делль Косса, как раз за мраморную колонну, чтобы получше рассмотреть, кому там машет ручкою крохотный Бог-Отец из пустяшных облаков. Там было свежо, с кустов свисали продолговатые оранжевые ягоды, на глянцевых листьях грелись склизкие жирные улитки, и дорога под ногами вспыхивала тонкой белой пылью…
Важно было вовремя выпрыгнуть обратно.
А иногда он оказывался в Фонарном переулке, в собственном доме с деревянным наборным потолком и стенами, обтянутыми полосатым синим шелком. Он гулял с няней по Большой Морской, сворачивал к каналу Грибоедова, потом на Мойку, и, в парусиновых шортах и чудовищных ботинках, все ловил, ловил, ловил нелепых хилых бабочек огромным марлевым сачком. А затем его отдали в ремесленное училище и женили на рыжей эстонке, устроили на велосипедный завод слесарем и заставили вступить в партию. В разговорах рекомендовался он ижорцем, писал под этим псевдонимом в многотиражную газету «Массив» заметки про агитационные турпоходы и, не по собственной воле, конечно, но изредка докладывал в шестой отдел, какие анекдоты витают в среде инженерно-технического персонала.
Была у него на заводе связь: звали ее Вера, она тоже была рыжей, как и жена Зинаида, только поглупее, и ее-то он чуть позже возненавидел. Неизвестно за что.
Поэтому, когда прошли годы и наступило время, он расстрелял и ее, и весь шестой отдел, до последнего человека по фамилии Хабибуллин, которого отыскали в городе Нальчике три месяца назад: у него был виноградник и два внука…»
Здесь в рукописи обширное пятно необъяснимого происхождения:
«…Сны, а сон – вещь интимная, обнажали подлинного Павла Аркадьевича.
В нем, как в наглухо запечатанной сургучом бутылке уксуса, покоились лично им найденные и освоенные категории.
Там были парки, они же мойры. Кодекс Верже. Лаузия – зеркало Венеры. Большой титул. Планета Сириус, индейцы-кечуа, жук-плавунец, Рейнский водопад, Радогаст… Год назад, например, выписывая комментарии к таинственной книжке под названием «Нума Руместан» – всякое серьезное чтение Павла Аркадьевич начинал и заканчивал именно комментариями и пояснениями – нашел он, что человек, точно так же, как коты, собаки различных пород, может, даже зайцы и прочая, склонен метить территорию. Памятниками. Потому что всякий монумент, а хоть бы и просто камень с символом, допустим, в виде пятерни, а не то вообще черт те с какой каракулей, оно уже не просто камень, но место на память. А уж какая там память – это ведь можно и придумать.
Потому что, что бы там себе не совершал, какая бы не осталась от тебя память, а забывается все. Напрочь. Зарастает вечной зеленью, как города в джунглях. Ничего не стоят никакие картины, никакой дель Косса, никакой Шостакович, никакой Руместан: настоящая жизнь нелепа, корява, бессмысленна и условна. А условностями ее обшивает и заштопывает, как паук муху, сам человек, изобретая условности эти сообразно случаю. И только такие условности, облеченные в указы и обычаи, писаные, скрепленные и запечатанные самой настоящей, липкой и черной кровью, переживают века. Они-то и есть подлинное человеческое время. Они-то и есть собственно человечество.
Читать дальше