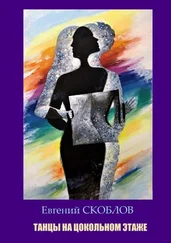Евгений Жироухов
Короткое лето свободы
(колымская баллада)
1.
Они решились на «рывок» – безумный для этих гибельных мест побег. Их было двое: матёрый вор, «профессор» – «Понятно-дело», на восьмом году от своей десятки срока и «политический» Еремеев, с кликухой «Инженер». Ему от его «пятёрки» – ещё три года впереди. Если раньше не сдохнет, или не заактируют по туберкулёзу.
Был только октябрь – но уже давил мороз, и сыпались со щёк и лба чешуйки обмороженной кожи. Еремеев, переживший уже две лагерных зимы, понимал, как человек при неизлечимой болезни, что ещё восемь месяцев стылого ужаса не в его силах выдержать, и надежды нет, и ещё одну колымскую зиму ему не пережить. Он в своей бригаде уже был зачислен к «доходягам».
Пятеро доходяг таскали к шурфу дрова из тайги. Ещё двое, «костровых» оттаивали грунт. Четверо остальных зэков долбали этот грунт кирками и ломами, выкидывали «пески» – золотосодержащую породу на поверхность. У костров работа была самая «блатная», ею и занимались блатные в авторитете: Понятно-дело и Кеша-шпион.
Понятно-дело – хоть и не значился «паханом» по лагерю, но в бараке был «смотрящим», порядок блюл без мордобоя, лишь изредка влеплял затрещину какой-нибудь суетящейся шелупони. Политических не гнобил. Даже оберегал от агрессивной шпаны и любил, присевши рядом, слушать, о чём они там беспрестанно спорят непонятными словами. Внешность у Понятно-дело была, точно как у волка, вышедшего из дебрей на открытое пространство. Из-под насупленных, седеющих бровей настороженно-бегающе смотрели карие глаза. По лицу от носа до подбородка залегли глубокие, как шрамы, морщины.
По воровским «мастям» Понятно-дело значился как «вор со специальностью», «профессор» – ломал сейфы, «медвежатник». Понятно-дело, в основном, и спорил со своим напарником, карманником Кешой, чья профессия «деликатнее». Карманнику требовалось «по работе» иметь чувствительные пальцы «как у музыканта». «Медвежатнику» – тонкий слух, «как у композитора» для набора шифрованного кода.
Кеша по факту числился в блатных, хотя по приговору проходил как «политический». По дурости своей спёр он у фельдъегерской службы чемоданчик, ошибочно считая, что в чемоданчике с печатями деньги советские, а фельдъегеря – инкассаторы. А в чемоданчике – секретные документы. Кешу быстро сцапали и влепили стандартную «десятку», хотя, по началу, хотели «намазать лоб зелёнкой» как шпиону иностранной разведки. По зоне Кешу так и кликали «шпион». «Не по своей масти сработал – вот и влип, дурень», – смеялся над Кешей Понятно-дело. Кеша в лагере на зависть многим пристроился уютно. Был в «любовях» с фельдшерицей из вольных, «кра-а-асивой, как пожарная лошадь в лунную ночь», и ещё, потому что умел настраивать постоянно расстроенное от жаркой печки пианино жены «хозяина». Жена начальника лагеря, дебелая, со взглядом в одну точку, будто завороженная, играла на пианино, по словам Кеши, «точняк, как снежная баба, одним пальцем» и была готова для милого дружка вынуть серьгу из ушка.
Кеша удался природой смазливой наружности и выглядел лет на тридцать. Его напарник, Понятно-дело – то ли на пятьдесят, то ли на шестьдесят, то ли – на все семьдесят. Никому из колымских зэков нельзя было сделать комплимент, что он выглядит моложе своих лет.
«Костровые» держали порядок в бригаде и, чтобы не беспокоились двое конвойных вдалеке у своего костра, сами покрикивали на зэков строгими голосами или давали пинка кому-нибудь из сомлевших работяг.
2
Еремеев заученными на уровне рефлекса движениями накладывал на санки наломанные чахлые стволы полярных сосенок и лиственниц, перехватывал штабель канатом крест-накрест, тащил к шурфу и вываливал дрова рядом с костровыми. Кромка тайги с каждым днём отделялась от шурфа всё дальше и дальше. Шурф по золотоносной жиле пробивали за смену зимой на метр-полтора. Десять метров проходки давали летом на промывке, когда шла вода, примерно килограмм промышленного золота или, примерно, пять невесомых человеческих душ, отлетевших за это время на покаяние к Господу.
Еремеев выполнял свою работу отупело, а мозг его в глубине деревенеющего от стужи черепа пульсировал сам по себе и машинально выдавал мысли. Полярная ночь уже плотно ложилась на вершины сопок, и Еремеев по тонкой розовой полоске на востоке определял время сигнала на обед. Он настраивал каждый день своего пребывания в жизни на короткие периоды: до сигнала на обед, от обеда – до сигнала «отбой». Мысли его не уходили в такую даль как завтрашний день. Выдержать до обеда, выдержать до отбоя. Из «доходяг» следующий шаг был в «дохляки» – потом в «мертвяки». И заканчивались жизненные муки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


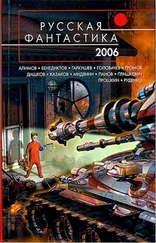





![Николай Кузьмин - Короткий миг удачи [Повести, рассказы]](/books/400221/nikolaj-kuzmin-korotkij-mig-udachi-povesti-rassk-thumb.webp)
![Евгений Дубровин - Грустный день смеха [Повести и рассказы]](/books/425232/evgenij-dubrovin-grustnyj-den-smeha-povesti-i-ra-thumb.webp)