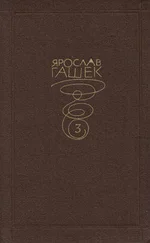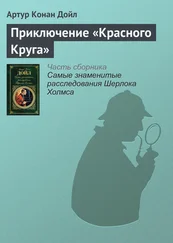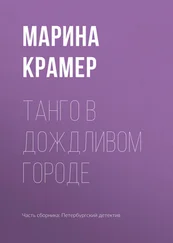Высокую, тонкую, с короткими рыжими аккуратно уложенными волосами, с круглым лицом, на котором выделялся широкий тяжёлый нос и тонкая верхняя губа, её вряд ли можно было бы назвать красивой, если бы не глаза – огромные, миндалевидные, искрящиеся, обволакивающие теплом улыбки, в момент прямого взгляда приоткрывающие на короткие секунды водоворот чувств и эмоций. От этих глаз трудно было оторваться.
За столом, как обычно, когда он приезжал, говорили о том, как жили когда-то вместе; как по выходным и праздникам собирались в столовой с выходящей во двор двухстворчатой дверью, всегда открытой друзьям и однокашникам; об ушедших родителях, о детях, внуках, об остроумном дяде Боре с его шутками, которые запрещались слушать детям; о его сыне, который в трудную минуту сумел поддержать сестру и тётку. Вспоминали смешные истории из детства всех присутствующих, включая и его самого.
Он молча слушал обрывки разговоров и улыбался – его захватила тёплая, казалось, давно забытая атмосфера старого дома, он таял в ней. В такие минуты вино обостряло его тщательно спрятанную сентиментальность, в груди набухал ком нежности, давя на сердце и мешая сосредоточиться. К моменту, когда кто-то сказал «бери гитару, будем петь», он как раз добрался до пика молчаливого обожания присутствующих и окончательно потерял власть над руками и голосом. Спасла хозяйка – забрала непослушную гитару и допела домашний концерт. Его опять поразил её голос – такой же, как голос на той кассете, молодой и трогательный голос трагически погибшей дочери его приятелей, студентки Колумбийского университета.
Потом он с энтузиазмом рассказывал о своем последнем увлечении – аргентинском танго, о Буэнос-Айресе, объекте паломничества всех тангерос, и даже, кажется, подхватил просвещенную во многих областях искусства сестру, чтобы показать несколько простых шагов.
Анька подошла к нему, когда народ начал расходиться:
– Оставайся. Ты же понимаешь, что я тебя не отпущу.
Он посмотрел на неё и кивнул:
– Конечно.
Дом погас, затих – уснули набегавшиеся дети, ушли наверх родители. Раскинувшись на полу перед лестницей, спала собака. За окнами шёл снег, и два силуэта с бокалами на фоне растущего на подоконнике сугроба еще долго взмахивали руками, вполголоса рассуждая о еврейской части семьи, которую Анна недавно начала осознавать, о людях, чьи следы и традиции искала в себе с неослабевающим вниманием и пристальностью. Глубоко ли это её тогда волновало?

В тот вечер он отправился спать с радостным чувством находки… А ночью заболел. Утром, выкопав машину из-под снега, она отвезла его домой, мечущегося от боли и неспособного даже говорить. Через несколько дней он улетал утренним самолетом, спать накануне не имело смысла – и он обрадовался, когда она позвонила попрощаться и практически до приезда машины перебрасывалась с ним едкими смсками. Договорились оставаться на связи. А в аэропорту Лос-Анжелеса его настигло её письмо:
«Ты смотрел на меня и смеялся. Удивлялся. Что-то говорил отцу обо мне. А я крутилась с единственной мыслью – не отпустить. Моё. Моё. Ты остался так легко, что я оторопела. Проводила всех, отвела родителей спать и осталась пить и говорить с тобой. Посередине между изумлением, как с тобой просто, и страхом, что я неловко повернусь, и ты исчезнешь. Потрошила тебя вопросами, не натыкаясь на сопротивление. А потом ты задал пару очень простых вопросов, и я застыла, словно голая. А ты усмехнулся и сказал, что твоей жене, в отличие от меня, повезло – у неё есть ты. И я заткнулась. Дала себе по рукам и по губам. Утром тебе было плохо, я не умела тебе помочь, не справлялась со временем и направлением и твердила себе, что тебе меня не надо. Через день вскользь сказала отцу, что с тобой удивительно легко, как будто ты всегда со мной был – а отец ответил: „Oсторожнее. Жена убьёт.“ Я отшутилась. А потом мы до трёх часов ночи писали друг другу, и ты не разрешил себя проводить. И я снова и снова била себя по рукам. Родственница… Успокоилась тем, что впереди длинная жизнь, и ты ещё приедешь, и снова будешь сидеть рядом со мной на диване, так близко, что можно положить голову тебе на плечо, взять за руку. А там либо ишак, либо шах…»
«Где-то глубоко внутри покорно спит не родившаяся женщина. С тоской смотрела на отца, его братьев, старые семейные фотографии – и спрашивала себя – что вы все делаете в этой холодной Москве, зачем вы тут, высоколобые, спокойные, любопытноглазые? Почему вам не сиделось под шелковицами в размышлениях о мудрости житейской, зачем вас понесло в бесконечную физику и математику, механизмы и технологии? И вместо большеглазой тихой еврейки вы родили меня, сумасшедшую, упрямую, дикую. По вечерам – не мечтой, а осторожным прикосновением языка в темноте закрытого рта – если бы все было иначе… Жизнь, правила которой неопровержимо мудры, и за каждым впитанным словом стоит непререкаемый авторитет тех, кто много думал. Длинные юбки, много детей, и смысл – в них, в служении мужу, в заботе и взращивании лучшего в них. И не стыдно, а почетно быть женщиной, матерью, женой, нежными руками и любящими глазами. И некуда спешить, некого обгонять, и мерило – в любви, а не в деньгах. Нет ни снега, ни зимней тоски, а темные глаза смотрят не оценивающе (потому что чем оценить существо иного вида), а любя и принимая такой, какая есть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу