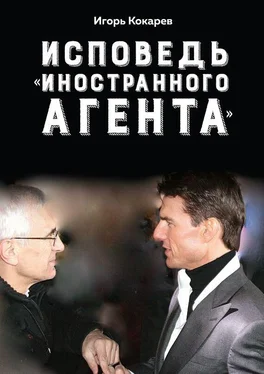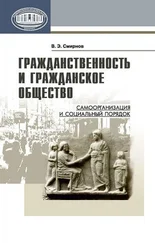Преподавание все больше увлекало. Может быть, потому что нашлась-таки собственная пусть и узенькая, но специальная ниша, где слово твое уже имело вес. Что казалось важным? Сближать кинокритику и социологию, наталкивая будущих киноведов на законы бытования искусства в обществе. И не вообще, абстрактно, а исторически конкретно, в разных обществах и эпохах. Заимствовал кое-что у популярного тогда философа Юрия Давыдова, у его супруги Пиамы Гайденко. Ребята хватали идеи налету, отыскивали свою точку отсчета. Но действующие киноведы и кинокритики хранили верность своему птичьему языку, хорошо маскирующему их мысли. Мне их язык был чужд, как и мой для них. Лишь смелая и проницательная Майя Туровская решится обратить свой взор на массовую киноуадиторию и точно расставит акценты в отношениях искусства с массовым сознанием, назвав такое восприятие кино на всякий случай внехудожественным.
В 70-х социологией кино займется даже НИИ киноискусства при Госкино СССР, от которого чиновники потребовали дать объяснение неприятной статистике резкого снижения посещаемости кинотеатров. Понятно, что дело было не только в перехвате зрителя телевидением. Что-то недоставало репертуару, сверстанному по заказу Госкино. Недаром бешеным успехом пользовались индийские мелодрамы. Ну, и западное кино, которое делало кассу, несмотря на то, что из 150 ежегодно выходящих на экраны страны фильмов, западных было едва 15. Словом, было о чем поговорить на семинаре.
После аспирантуры я продолжал на киноведческом факультете дело своего учителя вплоть до самых перестроечных лет. Николай Александрович подготовил себе смену, я не мог его разочаровать. Да и что говорить, мне нравился сам процесс. Раз в неделю две пары подряд семинар «Кино и зритель». Надо было готовиться, выуживать редкие статьи по нужной теме, анализировать сводки Госкино о посещаемости, переводить с английского, чтобы быть готовым свободно размышлять вслух. Мысленно же я спорил с киноведами, объяснявшими ножницы художественных вкусов исключительно эстетической неграмотностью массовой аудитории. Хотя спор тот выеденного яйца не стоил. Разве не ясно, почему зритель рыдал на индийской мелодраме? Наш «Человек-амфибия» в прокате тоже собирает невиданные 70 миллионов билетов. Люди хотят остросюжетного зрелища, комедии и мелодрамы. И неграмотность тут ни при чем.
А вот что делать с фильмами открытой социальной направленности? «Застава Ильича», «Три дня Виктора Чернышева», «Крылья», «Отпуск в сентябре», «Полеты во сне и наяву», «Долгие проводы», «Плюмбум», «Родня», «Сталкер» и «Солярис» – серьезные фильмы разных художников о личном кризисе, о проблемах в обществе и на производстве не находили отклика в массовой аудитории. А, значит, и в душе народа. Они интересовали разве что киноклубы и кинокритиков. Почему? Об этом мы тоже говорили на семинаре.
Основной же советский кинорепертуар не выдерживал критики. Феномен серого фильма станет скоро даже предметом затяжной и бессмысленной дискуссии, остававшейся в рамках идеологического дискурса. Чувствовалось, что кино задыхалось в этих рамках, отважные умы все чаще вырывались из них… и их фильмы попадали на полку. Об этом мы тоже немного говорили. Но я старался не зарываться. То, что уже знали мои студенты, еще не доходило до чиновников Госкино. Они заказывали социологические исследования и боялись их выводов.
Я сам учился читая, смотря, слушая, вытаскивать из подполья иносказаний и подтекстов неклишированные мысли и идеи. Старался, чтобы не ушли они обратно в полуподвальный внутренний отстой, чтобы работали, попадали в меню ежедневной духовной пищи студентов. Рискованная, между прочим, была игра: вроде бы нет у нас запретных тем, но есть где-то рамки дозволенного, которые никто не видит. Но чувствуют. Надо было догадаться, где остановиться. Я же и подливал масла в огонь: найди черту сам! Нет, мы не диссиденты. Но перешагнешь – им и станешь. И будешь наказан, уволен, выброшен, выслан, посажен, никому не нужен. Не дойдешь – обидно, художник: не договорил, не выразился, зря талант просадил. Так что азарта в творчестве молодых режиссеров, говорил им я, надолго хватит. Тащить вам, ребята, свою бурлацкую лямку, вытягивать тяжелую, забитую доверху лозунгами и фобиями баржу общественного сознания к истокам общечеловеческих ценностей всю свою творческую жизнь. И не будет этому конца… Никто не знал, что там, за горизонтом.
Искренность и осторожность – два полюса, между которыми я буду, сам того не осознавая до конца, вести свою тайную борьбу с методом социалистического реализма, с изношенными ценностями поры «зрелого социализма». Семинар выделялся на общем фоне традиционных дисциплин, на режиссерском факультете прослышали о нем и пригласили. Там он назывался семинаром по зарубежному кино. Фильмы мы анализировали в основном американские, но подход был тот же, социологический: кино в общественно-политическом контексте времени. Я заказывал фильмы независимых режиссеров нового поколения на стыке либеральной и консервативной эпох: «Выпускник», «Алиса, которая здесь больше не живет», «Легкий ездок», «Возвращение домой», ««Грязные улицы», «Смеющийся полицейский», «Жажда смерти», «Роки», «Рэмбо» и через призму этих картин предлагал увидеть реальную Америку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу