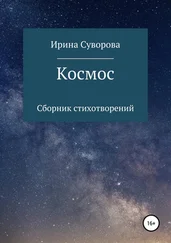Скорей всего, я была почти единственной, кто лицезрел эту женщину-ангела в нашей Верхней Тойме, потому что посторонних в нашей большой комнате никогда не было.
Да и в маленькую редко кто заглядывал – такое было время, не нуждающееся в оправдании.
А воздействие художественного полотна на формирование во мне своеобразного человечка тоже нет нужды доказывать: это и открывшаяся однажды творческая тяга, и неравнодушие к небесному миру, и некая, смею думать, упругость жизненной энергии.
И снова вернёмся в апрель…
Природа встрепенулась жить. Зажурчала, засветилась, обнажилась пригорками, бросилась в рост мельчайшими травками, а травки – спасенье и для козы Мильки, и для нас – негородских ребятишек. Потекла сосновая смолка – она наша!
Засочился берёзовый сок – брат уже и сам напился, и несёт в баночке домой. А если заячья капустка под ёлочками на угоре за Долининским ручьём (где сейчас деревянная церковка), там и меня ползающей под ёлками можно было заметить; заячья капустка не хуже лимона снабжает витамином Цэ.
А уж если мак зацвёл, то, значит, будут у нас скоро пироги с маком – сами и насобираем по зёрнышку на опустевшем маковом поле (мак тогда выращивали для каких-то нужд войны).
Полноценной-то еды у нас никогда не было. Но мы, малолетки, жили себе и даже не подозревали, что мы всегда голодные .
Но инстинктивно все наши действия были связаны в первую очередь с тем, чтобы подбросить в топку растущего организма каких-либо дровец.
Это и было нам задание от Господа – ВЫЖИТЬ!
Отсюда проистекала наша тогдашняя повседневная жизнь-выживание: попытки с вилкой в руке поймать в ручье налима, хождение в лес (далеко и страшно!) за ягодами, добыча на замёрзшем поле недовыкопанной кем-то картофелины…
Ведь в годы войны матерям-солдаткам не было ни пособий, ни каких-то других льгот, если судить по нашей верхнетоемской жизни, а ведь это всё же был районный центр!.. «Всё для фронта, всё для Победы!»
А кто бы возражал?
Вот и не помню я из тех лет ни стола, застеленного белой скатертью, ни царских на нём яств.
Спасибо маме и за тёплую мучную болтанку, сдобренную каплей растительного маслица, и за редкие попытки удивить невиданным доселе блюдом.
Не даёт Господь забыть поистине святого дня, видимо, скрытно связанного с каким-то семейным событием (или это была Пасха?): мы с братом прожорливо наблюдаем, как мама торжественно выкладывает в горячие капустные листья какой-то фаршик, а потом старается их завернуть, но они никак не хотят заворачиваться.
В комнате разлито уютное тепло с мягким капустным оттенком. Так, с боем, творились удивительные голубцы, приковавшие наше внимание. Удались ли они у утратившей поварские навыки мамы, напрочь забыто. «Как аппетит?» – «Не жёвано летит!»
А вот простецкие шанежки нам перепадали чаще.
Шанежки тех лет – это вот как: берётся кусок хлеба, а сверху настилается либо пшённая каша-размазня, либо картофельное пюре. Заготовка на противне запускается на огонь, – и, подрумянившись, шанежки готовы. Остается только махнуть сверху промасленным вороньим пёрышком.
Сейчас, в годы относительного благополучия, так и не научившись баловать себя мировыми кулинарными шедеврами, все мы, выходцы из войны , представляем собой особую породу людей, на которых может положиться не только наша единственно любимая Родина, но и сам Господь. Ибо мы веруем, что, если ОН не выдаст, никакая свинья нас не съест.
Что-то в нас заложено военным воздухом такое, чего нет или совсем почти нет в других, более молодых, соотечественниках. И вот самое время рассказать про цыганку.
Брат Володя уже ходил учиться, и я всё реже видела его дома. А меня мама стала помаленьку приучать к рукоделию. Сама она, когда была в силах, кое-что шила на ножной машине под звуки радио тех времён – круглого, чёрного, страшноватого.
Но у меня дело кройки и шитья не пошло, потому как я сразу же, не справившись с ретивой машиной, пришила собственный палец. И вот ещё что памятно: именно тогда, в тот период, из радио стали иногда доноситься неслыханные ранее печальные протяжные хоровые мелодии, и мама им тихохонько подпевала (так ознаменовался почти незаметный для страны разворот вождя к помощи сил небесных.).
Известно, что все дети – непоседы, так и я не чуралась улицы, расширяя свои познания жизни через расширение окружающего пространства.
Летом я иногда уходила за большой мост над глубоким оврагом: там было поле пшеницы, скрывавшее меня ото вся и всех с головой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
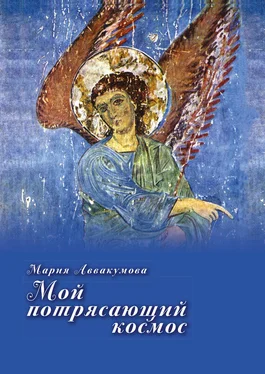
![Мария Метлицкая - Такова жизнь [сборник]](/books/27445/mariya-metlickaya-takova-zhizn-sbornik-thumb.webp)
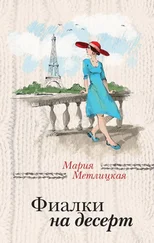

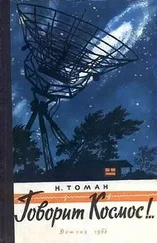
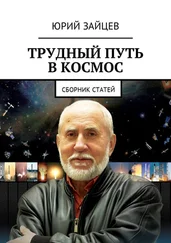
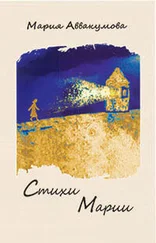
![Олег Дивов - Назад в космос [сборник litres]](/books/385490/oleg-divov-nazad-v-kosmos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Мария Соловьева - Сингулярность 1.0. Космос [сборник litres]](/books/435467/mariya-soloveva-singulyarnost-1-0-kosmos-sbornik-thumb.webp)