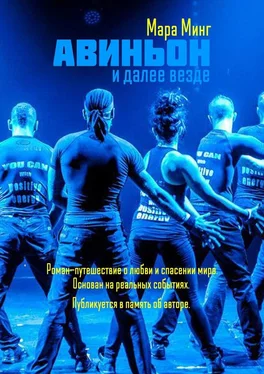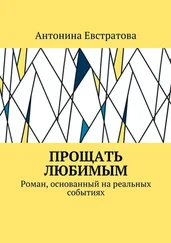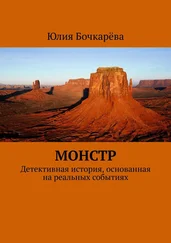Так я вывела неведомый мне доселе закон: скрещенные взгляды – не приглашение к дуэли, не агрессия. Наоборот: спусковой механизм улыбки.
Медленно, с трудом – ушел месяц, наверное – я начала улыбаться в ответ. А потом даже первой. Мне понравилось играть в эту игру, потому что исход всякого микроматча был непредсказуем: встречный улыбнется? Нахмурится? Испугается? Если русский – испугается наверняка. Русских тогда в Гоа было немного: первые эскаписты кучковались в Морджиме, остальные были туристы-пакетники с юга, учтивые как чугунные утюги – совсем как я поначалу. Улыбнешься – и русский, да, испугается. Иностранец наверняка улыбнется. Если прожил здесь долго – просияет, точно медный таз, да еще крикнет тебе «Эй! Да ты красавица!». И пойдет дальше.
Вернувшись в Москву через полгода (чего только за эти полгода со мной не случилось), я поняла: дома все по-прежнему. Улыбок нет. У меня и у самой случился рецидив мрачности, но все-таки я помню один момент. Зима, полумертвая ночная Сущевка. Сыро, пакостно, безлюдно. И вдруг из-за угла – парень. Идет навстречу, смотрит на меня и улыбается. Рот до ушей. Кому это он? Мне ли? Чего это он? А он нормальный?.. Тогда я нечасто видела на улицах Москвы открытые лица.
Десять секунд движения навстречу друг другу. Холодно смотрю на него, не отводя глаз, он идет на меня. Довольный-довольный.
Поравнялись. Расходимся. И что?
И вдруг я чувствую, как губы расползаются в улыбке.
И я несу ее дальше, навстречу кому-то еще, перекидываю – поймаешь? – кому-то из тех, кто смотрит на меня и пытается угадать: мне ли? знакомы ли? нормальная ли?
Перекидываю улыбку, но уже не вижу, как меняется лицо встречного. И меняется ли.
Тебе. Не знакомы. Нет, не нормальная.
Тогда я поняла: даже в Москве можно отыскать уличные улыбки. В те дни люди передавали их друг другу, как контрабанду, на ходу, не замедляя шага, не обмениваясь ни словом.
Индия, перемоловшая меня в муку и навсегда ставшая точкой отсчета, не раз окунавшая меня в самую темную мистику и в самый цветной сюрреализм, Индия дающая и лишающая. Жаркая земля, горячая земля, зловонная, смрадная и смердящая, благоухающая земля. Убивающая и живородящая, молчаливая и безжалостная, совокупляющаяся, гримасничающая по-обезьяньи, вьющая змеиные узоры, лживая, выжигающая глаза цветом, светом, потом, насилующая и прощающая, обнимающая и любящая, дающая успокоение и, успокоивши, гонящая прочь. Индия дала мне многое, но первое, чему она меня научила – это улыбаться и смотреть в глаза. А потом и смеяться. Смеяться надо всем, что происходит, и, прежде всего, над собой. Индия объяснила: не стоит делать сложное лицо, не так уж много в жизни есть того, над чем нельзя похохотать от души. Конечно, смех не дает ответов на все вопросы, но мне часто думалось, что именно со смеха начинается жизнь. Как-то так я начала ощущать.
– –
Дома я приняла душ; мутная авиньонская водица смыла с меня апокалиптический японский бокс. Джон успел за это время что-то проглотить, у меня аппетит так и не проснулся. Мы снова вышли на улицу. Авеню де ля Синагог поеживалась в густой тени платанов. Джон махнул рукой влево и гордо произнес:
– Вот моя машина. А вот мой мусорный бак.
Рядом с черной машиной – я не разобрала, какой марки – действительно, стоял мусорный бак на колесиках, большой и черный, как все добро Джона, за исключением сценических трусов (трусы Джон предпочитал цветные). Бак был прикован цепью к железному столбику. «Это моя машина, а это мой бак» («это моя Ло, а это мои лилии»; я вдруг поймала себя на мысли, что мне не так удивителен бак, как машина. Своя машина? У Джона? Ну и дела; а мне казалось, что такое мещанство ему не по нутру).
Джон открыл крышку и занырнул внутрь по пояс. Что-то загремело.
– Джонни, что ты там делаешь? – с легкой тревогой спросила я.
– Какая-то беда с дном. – глухо донеслось изнутри.
Джон вылез из бака, обогнул машину, залез в багажник, достал несколько свертков и переносной динамик. Все это перекочевало в бак. Господи, думала я, сколько же ты отмывал эту помойку? Или не отмывал? С одной стороны, от Джона можно было ожидать чего угодно. С другой стороны, не было человека чистоплотнее, чем он: он даже не мог поцеловать женщину, не вычистив зубы с утра. Он был настоящий француз, наш Джонни Бой.
– Можешь так не смотреть, я его купил. Он новый. – сиропным голосом сказал Джон, с ехидцей глядя на меня. – Поехали.
Не медля, он схватил бак за ручки и покатил по мостовой. Я посеменила следом.
Читать дальше