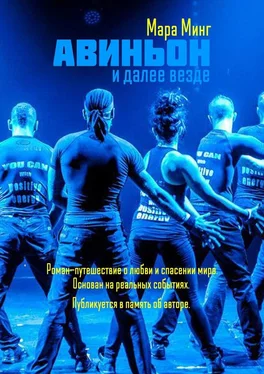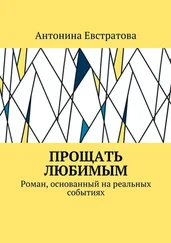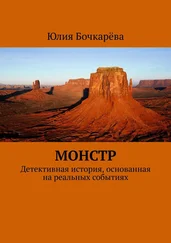Как бешеная лисица, скакал по рингу самурай.
Болтались, словно в эпилептическом припадке, головы целлофановых кукол.
Музыка гремела.
Раунды кончались и начинались снова.
Сидя в зале, я чувствовала себя жертвой такого бэд трипа, который не снился ни одному героиновому наркоману даже по выслуге лет. Голова раскалывалась, по телу пробегали судороги, в глазах рябило. Меня слегка мутило. Но при этом – смешно – кинуться прочь мне мешали остатки неуместной вежливости. Видя, как выкладываются великан и самурай, я не могла оскорбить их своим исчезновением. Джон был прав в одном: эти парни действительно были настоящими бойцами. Просто их усилия были направлены куда-то не туда.
– Вот поэтому, – ворчал Джон, когда мы вышли на солнце, – поэтому я и не хожу здесь ничего смотреть. Чтобы настроение себе не портить. Надо ж было состряпать такую дрянь! В прошлом году вся история – на раз-раз и готово, так хоть смешно было. Но не сорок же минут! Тебе как?
– Странновато. – уклончиво ответила я. Влажный призрак черного великана, весь в капельках на сияющем торсе, встал перед моими глазами. У меня не повернулся язык обругать его. Он так старался для шести человек.
– Нет, конечно… Они бойцы, – начал смягчаться Джон. – И каждый день теряют деньги, а вкалывают все равно. Вкалывают, вкалывают… С утра до ночи, на полную катушку. С утра промо, потом шоу, и опять промо, и опять шоу, и опять… Можешь себе представить?
Я представила и мне стало дурно.
– Гитлер капут, – сказала я. – Домой хочу. В душ.
– –
Джону суждено было стать тем, кто показал мне мир уличных артистов, и он показывал: как видел сам. Пока мы петляли по улочкам, он втолковывал мне по поводу фестиваля. По его словам выходило, что расчет вовсе не на деньги. Вернее, да, есть и те, кто просто зарабатывает на хлеб: что накидают в шляпу, на то и поужинаешь. Но для многих фестиваль – шанс поймать счастливую звезду, встретить импресарио или продюсера. Многие даже не стремятся заработать. Наоборот, тратят. Здесь как в казино: если повезет, выиграешь больше. Но у этих многих, по словам Джона, получается собачий стыд и халтура, они ничего не умеют и уметь не хотят. Недоучки и лентяи. Таких Джон презирал от души.
– Слушай, но тогда зачем? Столько занятий в жизни, хороших и разных, – недоумевала я, и в ответ получала фырканье:
– Некоторые просто любят выпендриваться. А кто-то считает себя очень талантливым.
Нет, конечно, добавлял Джон, есть те, кто умеет, и, кроме того, правда хочет что-то сказать миру. Что-то существенное, как им кажется. Только таких совсем мало.
Джон так костерил безыдейных дилетантов, что мне уже не терпелось оценить его новый спектакль. Почувствовать, как говорится, разницу. Я привыкла думать, что под людьми, которым «есть, что сказать миру» он имел в виду прежде всего себя; у него этих высказываний был целый мешок. Но потом увидела: нет, не только.
Со слов Джона я также узнала, что фестивальная программа делится на две части. Официальная разворачивалась на главной сцене. Что там происходило, как? Бог знает, мы так до нее и не добрались. Нас интересовала программа «OFF»: неформальная, живая, шанс для всех тех, кто хочет пробиться. Она и пропитала весь город. Правила были просты: хочешь – выступай на улице, можешь – плати за театр и давай спектакли внутри. Театры, театры, театры. Город был нашпигован театрами, но вовсе не теми, к которым я привыкла: никаких колоннад, коней, античных фронтонов. Авиньон был царством микротеатра: дилетантского, камерного. Театральные вывески рифмовались с вывесками прачечных и закусочных, ничуть от них не отличаясь; не везде даже горел неон по вечерам. Актеры, снующие между этими бесконечными театриками, напоминали мне участников школьных капустников. Юбки из шторы, кроссовки, торчащие из-под римских тог. Афиши, нарисованные собственной рукой. Никаких комитетов, правил. Праздник непослушания.
А еще были уличные. Те – другая история. Вольные птицы, голодные и отчаянные, бунтари и сумасшедшие. Каста магов-неприкасаемых; чаще судьба, чем выбор. Уличные артисты, племя дикое: ловкость рук и хищные повадки, одним воздухом дышат, бок о бок спят, на одном языке толкуют. Не с нами – не суйся, а если смелый, давай, покажи. Бродяжья жизнь в цветастой обложке, а внутри все то же: свой закон, своя верность и честь. Колючий мир без завтра: смотри, вот этот восьмой год в пути, спит под мостами, знает птичий язык, а имя свое давно потерял, только слог от него остался. А тот – подальше – видишь его? – ушел из теплого дома, чтобы мотаться по подворотням. А та заигралась как-то на запретной поляне, да так и осталась, навеки одурманенная ползущим туманом. Все смеется и пляшет.
Читать дальше