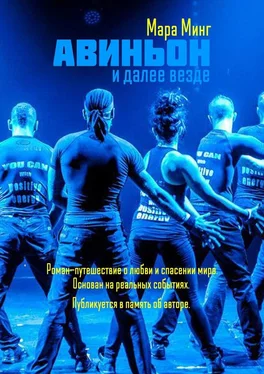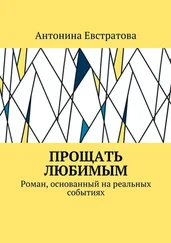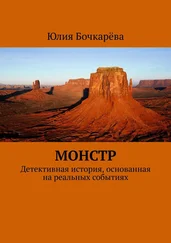Люберцы были городом пролетарским, простым. Те, кто не был мафией, те пили по-черному. Пили вообще все. Пили одеколон и нюхали клей. Жестокость была и защитой, и нормой жизни. В семьях дрались. Отвешивали оплеухи детям. Дворовая шпана мучила кошек и собак. Помню, как Катька, подружка с шестого этажа, проболталась, что ее брат приманивает на балконе синичек на кусок сала. Вроде, ничего криминального, но, вспомнив восемнадцатилетнего Серегу, хмурого, с нездоровым лицом в оспинах, я почему-то насторожилась. «Зачем? – спросила я. – Он точно над ними не издевается?» Катька замотала головой, а потом созналась: конечно, издевается. Вливает им в горло водку и смотрит, что происходит. Просто весело. Я рыдала в подушку двое суток.
Это было злое время. Жестокость была самым быстрым способом хоть на что-то опереться, хоть на секунду почувствовать себя сильным. А потому правила были простые: после десяти лучше не ходить по темноте. Вот эту стройку обходи даже днем: там кого-то изнасиловали куском арматуры. Здесь кого-то убили: труп нашли в мусорном баке. Прямой долгий взгляд в глаза – это вызов; сама будешь виновата.
Это помню про детство. Так я и жила, глядя вниз.
– –
Тогда, в девяностые, моя семья считалась благополучной. Повыше статусом, чем остальные в доме. За это нас недолюбливали. За это, да еще за то, что родители не хотели пить водку, а вместо этого крутились как сумасшедшие, пытаясь заработать. Чем только они не занимались после того, как рухнул Союз. В СССР все было понятно: дед из партийных, мама – пианистка, папа – архитектор. В перестройку архитекторы и пианистки не стали нужны никому – не говоря уже о партийных. И папа ходил по детским садам и фотографировал на заказ. Рисовал и делал витражи, заодно украсив ими все три окна в нашей трешке: в одной комнате получились морозные узоры, в другой – цветы, в гостиной – плавные ромбы. Окна-витражи. От этого гостиная сделалась похожей то ли на храм, то ли на светелку. Красиво и ничего не видно снаружи, на случай если кто-то из соседнего дома захочет посмотреть в бинокль, нет ли в квартире какого добришка. Такое бывало; после того, как с интервалом в пару недель две квартиры сверху обнесли («Золото, дочке на свадьбу хранила, – рыдала одна из потерпевших. – и шубу уволокли»), родители где-то достали денег и поставили массивную железную дверь. Она так и осталась в люберецкой квартире памятью о тех временах, вместе с полустершимися контурами витражей.
Мама-пианистка моталась ночными поездами в Польшу и привозила оттуда тюки тряпок: эластичные колготки, импортные лифчики, хлопчатобумажные носки. Все на продажу. Деньги на закупку приходилось возить зашитыми в трусы; в поездах тоже грабили. Заработком нужно было делиться с администрацией рынка и с рэкетом.
– А разве милиция нас не охраняет? – удивлялась я.
– Моя милиция меня бережет: сначала поймает, потом стережет, – мрачно отшучивался дед.
С милицией тоже приходилось делиться.
Потом родители как-то нашли канал в Монголию и стали торговать шапками из песца и ондатры. На полке поселился русско-монгольский разговорник, Ярианы Дэвтэр («Здравствуйте» будет «Сайн байн уу!», а «Предлагаю тост за ваше здоровье!» – это уже посложнее: «Таны эруул иэндийн төлөө хундага оргье!»). Иногда к нам в гости приезжали монголы: луноликая Дина с двумя золотыми зубами и ее смуглый муж, худой, с обветренным лицом, похожий на иллюстрацию из учебника по истории (раздел про кочевников). Они-то и привозили из Монголии шапки, с которыми родители потом стояли на рынке. Весь коридор в квартире был забит коробками; оставался только узенький проход. Все держалось в строжайшем секрете. Мне запрещено было водить в гости друзей и уж тем более рассказывать, чем занимаются мама с папой.
Помню, как по выходным, толоконными зимними днями, когда уже в три часа дня заиндевевшее окно становилось красным от подступающего заката, папа-архитектор, мама-пианистка и дед, партийный начальник, вваливались домой промерзшие до костей, простояв шесть или семь часов на открытом рынке, при минус тридцати.
– Ну как, па? – спрашивала я, выскакивая из комнаты. – Сколько?
– Тебя это почему беспокоит? – сурово спрашивал папа. И шел в ванную греть руки. В это время мама шепотом делилась:
– Четыре женских и две мужских.
«Четыре женских и две мужских» – это было о количестве проданных шапок. И это было еще вполне ничего. Хуже, когда ни одной. Непонятно, чем питаться на неделе.
Читать дальше