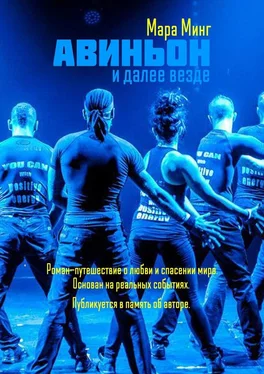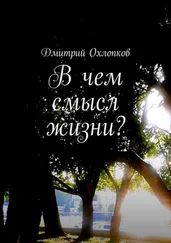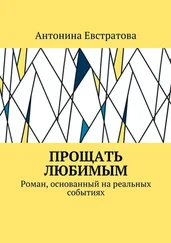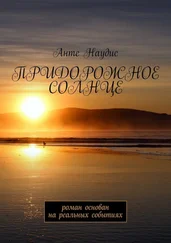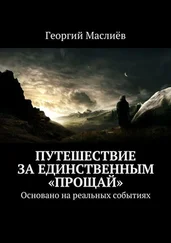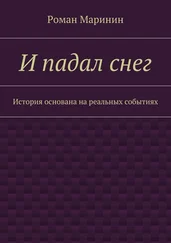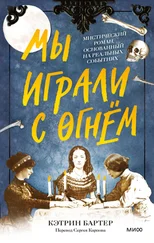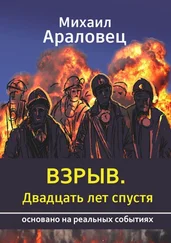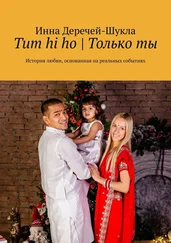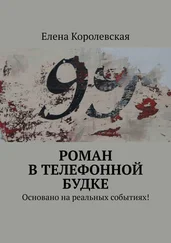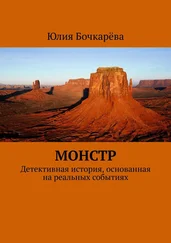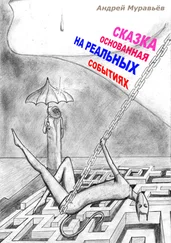Мы иногда обсуждали это с Аселией, когда встречались дома вечерами. В частности – непреодолимую пропасть между нашим с ней мировоззрением и ценностями, господствующими на наших малых родинах: в ее Улан-Удэ, в моем Иркутске.
– Ну что, и вот я им расскажу, как я живу? – возмущалась Аселия. – Какой от них можно ждать реакции? А я тебе отвечу: пожалеть и на костер!
Аселия тоже была моей породы. Спереди посмотришь – эстет. Со спины зайдешь – а там наклейка: «авантюрист».
– –
Я убеждена: все тянется оттуда, из детства. В моем случае – и авантюризм, и тяга к красивой жизни, и желание заглядывать в чужие миры. Детством были Люберцы. Подмосковные Люберцы, город, где тебе нахамят прежде, чем сосчитаешь до трех – ну и что? Не хлопай глазами, не щелкай клювом, просто нахами в ответ, это нормально.
Про Люберцы я помню вот что: этот город никогда не был спокойным, а в перестройку и вовсе слетел с катушек. Город просто стоял вверх дном. Мне кажется, особенно тревожно было в середине девяностых; или, может, с этого момента я просто лучше помню. Помню это время как вечную зиму: мглистую, сырую, с развалами серо-грязного снега и низким тяжелым небом. Рэкет жег продуктовые палатки и взрывал машины. То и дело пропадали без вести местечковые предприниматели; потом их тела обнаруживали в чьих-то багажниках (об этом тихо говорили родители на кухне и громко – по телевизору). С партнерами по бизнесу (как это у них называлось) разбирались жестко: вырезали семьями. От слова «крыша» веяло не уютом, а угрозой. Шутки про паяльник и утюг не были особенно так шутками. Чьи-то гниющие тела находили в затхлых парках. Что-то темное творилось по ночам в гаражах. «Подмосковная столица криминала», «мир воровства и беззакония», «бандитский беспредел» – желтоперые журналисты оттачивали свое красноречие на заголовках. Мама запрещала мне читать газету «Московский комсомолец», но я запиралась в туалете и читала все равно.
Сотни парней в городе или имели отношение к мафии, или мечтали влиться в ее ряды. «Пожары и перестрелки. Угоны автомобилей и взрывы. Аварии и убийства» – передача «Дорожный патруль» была одной из самых популярных в Москве и Подмосковье. В нашей семье с нее начинался день. В сотнях других – тоже.
Рано утром, еще в сумерках, папа усаживался с литровой чашкой чая и щелкал пультом.
– На Волжском бульваре, – без приветствия начинал холодный женский голос. – Произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали два человека…
Я собиралась в школу. Мама расчесывала мне волосы и заплетала косу резинкой: яркой, китайской. Я умывалась, чистила зубы, натягивала колготки.
– Бубубу… – неслось из гостиной. – Найдены останки… Обгоревшие тела… бубубу… Опознание останков… бубубу…
Мама намазывала мне белый бутерброд с маслом и сахаром. Себе наливала кофе.
– Бубубу… Пожар на Инициативной… Скорая… Труп мужчины… Останки под снегом…
Слово «останки» в этой передаче повторялось чаще всего.
– Дед приехал. – Наконец оповещала мама, выглянув в окно. Дедушка каждое утро возил меня в школу на машине. – Беги.
Я выходила из квартиры и попадала в льдистое утро. Там искрился снег, весь в желтых собачьих росчерках, и тарахтела, отфыркиваясь от мороза, круглобокая дедовская «Волга». Останков не было. И не сказать, что они меня касались: родители сделали все, чтобы вынести меня за рамки этого хаоса. Из школы, которая была у нас под окном, мама забрала меня уже в октябре первого класса и перевела в другую, получше. Там, по крайней мере, не нюхали клей на переменах. Там были бальные танцы и уроки этикета (а также завуч, которая заставляла третьеклассников снимать трусы у доски – но, мне кажется, об этом я маме так и не рассказала). Продолжался мой французский. С уличными детьми мне общаться не давали; никакого насилия, просто очень тонко, очень ненавязчиво взрослые переводили фокус моего внимания на других детей. Поприличней. «Уличный ребенок» – это был приговор. За меня боялись: чего доброго, кто-нибудь научит ее курить или зажмет в углу. А до бандитов мне не было никакого дела: какое отношение они могли иметь ко мне, маленькой девочке?
Но дело было не в них. Дело было в обычных людях: тех, с кем приходилось иметь дело каждый день.
Радиоактивная вибрация, исходившая из закоулков, фон, который излучали гаражи и подвалы, не мог не влиять и на обычных людей. Оттуда все время как будто шел сигнал: мы рядом. Мы близко. Завтра ты встретишь нас на улице. А, может, попадешься нам в подъезде – и даже не успеешь ничего понять. Кроме того – общая неустроенность, увольнения, страх. Мир пропах отчаянием. Никто не знал, что будет завтра. Зарплата? Скажи спасибо, что вообще работаешь. Честный бизнес? Вы смеетесь?
Читать дальше