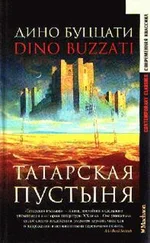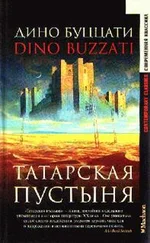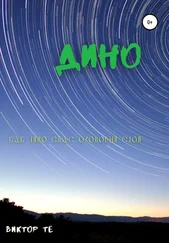Какой-то здоровяк сильно толкнул Дионизио в бок с окриком: «Ну, чего рот раскрыл! Не мешай людям!» Людям… Рука невольно потянулась к ножу, но, опомнившись, Дионизио просто отошел. Процессия скрылась из виду. Он побежал к площади. Все тело напряглось, как у собаки в погоне за дичью. Нужно прибежать на площадь раньше. Он должен пробраться к эшафоту так, чтобы Анна увидела. Он должен оказаться рядом. Он откинет поленья, вязанки хвороста и спасет ее.
Добежав, Дионизио с ужасом увидел – площадь забита зеваками, и к эшафоту не протолкнуться. К тому же везде стояли гвардейцы. В толпе смеялись и шутили, плевались и ругались на чем свет стоит, жевали и отхлебывали. Площадь источала запахи плоти и еды. Из распахнутых окон разноцветных домов, обрамляющих площадь, торчали головы вельмож, кои пользовались привилегированным положением и арендовали комнаты с видом на эшафот. Толпились мужчины, женщины, дети. Дети… Он вспомнил, что шестнадцать лет назад здесь казнили некоего философа Бруно и тоже привели много детей. Все верно. Если с детства приучать к смерти, она перестанет вызвать ужас, как по отношению к другим, так и по отношению к себе. Макабр становится таким же привычным, как и гальярда.
Показалась процессия. Гул затих. Цепочка из четырех жертв в окружении солдат появилась на площади. Зеваки принялись подниматься на цыпочки, толкаться, чтобы лучше рассмотреть, что происходит в начале площади. Появился здоровенный детина в черном одеянии, оживший минотавр, только, что без рогов. То был штатный палач Вечного Города, приглашенный из Германии старший сын Мастера Франца нюрнбергского. Как и полагается, carnifix, как настоящий артист, всегда выкладывался полностью, чтобы порадовать зрителей и сделать зрелище незабываемым, чтобы о нем вспоминали долгое время, от этого еще зависела прибавка к жалованию. Когда жертвы приблизились к эшафоту, он поднял группу из четырех невесомых тел, словно связку пуховых подушек, и установил возле столба, торчавшего из огромного стога вязанок хвороста, обложенных крепкими поленницами. Это вызвало бурный хохот толпы. У Дионизио перехватило дыхание, он сглотнул нестерпимо приторную слюну. «Этот первый», – он попытался прорваться ближе, что оказалось невозможным.
К женщинам подошел монах. Площадь притихла. Монах спросил каждую, кается ли она в грехах, и, получив кивок ото всех, кроме одной, которая попыталась плюнуть ему в лицо, поспешил прочь, будто боялся, что подожгут вместе с приговоренными. На эшафоте появился глашатай в пестром одеянии и начал зачитывать, успев ухватить рукой шляпу, которую едва не сдул порыв ветра:
– Лючия Полетти! Обвиняется в колдовстве! Приговорена! – толпа радостно проулюлюкала. – Селена Марелли! Обвиняется в колдовстве! Приговорена! – взрыв радости публики. – Мария Шико из Прованса. Обвиняется в ереси. Приговорена! – возбуждение людской кучи дошло до экстаза. – Анна Ста…
Шум стоял невообразимый, и лютнист не разобрал слов. Он осмотрелся. Рядом стоял толстяк с большим куском фокачча с сыром.
– Что он сказал? – нервно спросил Дионизио.
– Что, что! Приговорена! Ведьма! – радостно ответил тот.
– Кого именно? Как назвал?
– Да какая разница! – взревела туша, которую отвлекали от зрелища. – Анна какая-то там.
– Стампи? – с испугом произнес музыкант.
– Да кто их там разберет. Может, и Стампи. Или как еще там. Да отстань ты! – рявкнул мужичок и угрожающе посмотрел.
Одна из приговоренных опустила голову, и из-под капюшона рассыпалась прядь каштановых волос. «Анна!»
Верзила-минотавр подошел к вязанкам с горящим факелом и поднял его над головой. Толпа взревела, будто грешники вскричали во всех кругах ада. Палач быстро обошел каре из вязанок хвороста и поленниц, поджигая со всех сторон. Над площадью взвился сизый столб дыма!
Дионизио стоял в полном оцепенении.
– Хорошо им, – проскрипел над ухом голос.
Дионизио резко обернулся. Старуха.
– Как же это хорошо? – он еле ворочал сухим языком.
Старуха продолжала, будто получала удовольствие, комментируя события.
– Страдать меньше будут. Умрут до того, как сгорят. От дыма. Да и хворост сырой. Это не то, что галльский костер, на котором Орлеанскую Деву сожгли. Там видно, как тела полыхают. Этих пощадили, на большой костер приговорили. Видать, раскаялись, грешницы.
Невдалеке грозным раскатом город накрыл гром. Шум на площади существенно стих. Над столбом взвился вьюном серый дым, закорчились языки пламени. Толпа опять взорвалась неистовым криком.
Читать дальше




![Р. Гордон - Пуля для звезды. [Пуля для звезды. Киноманьяк. Я должен был ее убить. Хотите стать вдовой?]](/books/102748/r-gordon-pulya-dlya-zvezdy-pulya-dlya-zvezdy-kinom-thumb.webp)
![Андрэ Нортон - Звезды принадлежат нам! [= Звезды наши!]](/books/270148/andre-norton-zvezdy-prinadlezhat-nam-zvezdy-nash-thumb.webp)