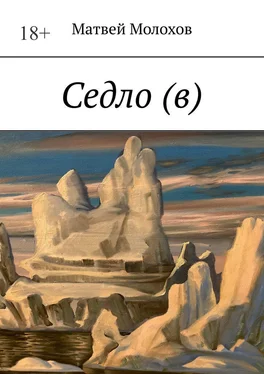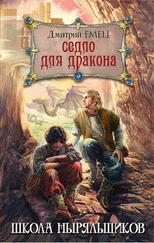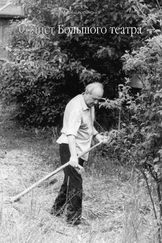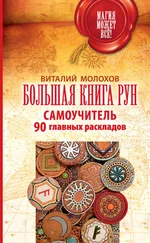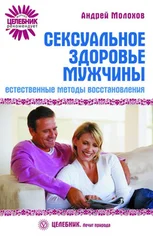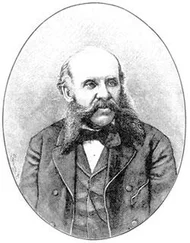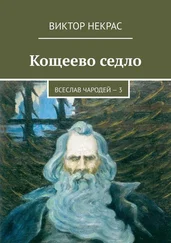Задание прочитать рассказ было дано за неделю, но, как и всегда, прочитали только Подгорный, Бликов и всегда исполнительная, но без полета, Лиза Шерстнева. Поэтому Седлов предусмотрительно распечатал ключевые отрывки и пересказал первую часть рассказа.
– Что или кого напоминает первая часть рассказа из уже известной вам литературы? – на вопрос Седлова последовала тишина. Даже Подгорный молчал. – Спрошу проще: о чем она?
– Ну, о любви, – ответил Бликов.
– Да, но вам не кажется странным описание этой любви?
– Нет, – диалог с Бликовым уже начинал раздражать Седлова.
– Ну как-то по-старому что ли, искусственно, – наконец проснулся Подгорный.
– Отлично! – не стал скрывать радости Седлов, – а герои кого-нибудь напоминают?
– Ну этих, как его, у Достоевского в «Бедных людях» переписывались, – вдруг сказала Шерстнева.
– Молодец, Лиза, что вспомнила Макара Девушкина и Варвару Доброселову. На самом деле мы можем вспомнить почти всех влюбленных героев русской литературы: и Алексея Берестова с Лизой Муромской из «Барышни-крестьянки, и Гринева с Машей из «Капитанской дочки». Не уверен, что вы их помните, – хотя Седлов как раз был твердо уверен, что перечислил сам для себя давно вытесненные из ученической памяти, а то и не обитавшие там имена героев, – но давайте обратим внимание: параллели к состоянию чего постоянно проводит Андреев в этой части рассказа?
– Природы, – снова Шерстнева.
– А вам нравится это описание?
– Очень, – Седлов решил проигнорировать любившего намеренно говорить в пику Бликова, так как ждал другого ответа.
– Нет, как-то неестественно, как в сказке, – то что надо от Подгорного.
– Кстати, давайте назовем героя Льва Толстого, которого вы точно должны помнить, так как мы подробно останавливались на сцене, где состояние природы помогло понять изменение состояния влюбившегося героя? О ком речь?
– Болконский и тополь, – Бликов опередил Подгорного.
– Какой тополь, дуб, – Егор Петрович внутренне порадовался маленькому торжеству Подгорного над Бликовым.
– Отлично. Не все потеряно. Кстати, напомню, что в литературе этот прием называется психологическим параллелизмом. А вы видите разницу между толстовской сценой и описанием у Андреева?
– Нет, – снова Бликов.
– Конечно, есть разница. У Толстого это как-то естественно, реалистично, а здесь, как я уже сказал, какая-то сказочность, неестественность, да и герои какие-то странные, – Подгорный включился на полную.
– А в чем их странность?
– Ну, они какие-то искусственные, как бы без характеров, и диалоги какие-то пафосные, – наращивал Подгорный.
– Кстати, о чем диалог?
– О любви, – Шерстнева.
– А именно? Посмотрите.
– Ну о том, что они готовы помереть за любовь, – Бликов со скучающим видом после паузы.
– А есть ли какие-то странные детали в описании героини во второй части рассказа, ведь речь идет о молодой девушке? Посмотрите, текст перед вами, вторая страница, первый абзац.
– Кроваво-красные губы, – Подгорный после паузы.
– Скажите, это описание, противоречивые детали – упущение писателя или сознательный художественный прием?
– Упущение, – Бликов.
– Сергей, конечно, к творчеству Андреева относились неоднозначно, и тот же Лев Толстой его не любил, – решил не игнорировать Седлов.
– И правильно не любил, хрень какая-то для детей, – перебил в излюбленном стиле Бликов.
– Но я не договорил, – Седлов добавил металла в голос, – после опубликования «Бездна» произвела шокирующее воздействие на публику, и нам важно понять, почему.
– Мне не важно.
– Не важно – не участвуй, но ты же не зря читал и давай будем судить уже по итогу, – Седлов начал закипать, но понимал, что так можно сварить урок, и он все же отдавал должное периодической точности читающего Бликова.
– Можете ли вы согласиться с тем, что Андреев здесь намеренно пародирует некоторые романтические, лирические литературные мотивы, сюжеты, в которых описывались чувства героев, любовь?
– Да, – Подгорный одновременно с Шерстневой.
– Кстати, намеки в тексте произведения на героев, сюжетные линии других произведений называются аллюзией. Давайте запишем определение. – Седлов не был сторонником диктовки и заполнения тетрадей текстом на литературе, считая это тратой времени и убийством мысли, тем более писанины хватало везде, но, как говорили административные умы, всегда должны быть следы обучения. И эти следы надо было оставлять.
Читать дальше