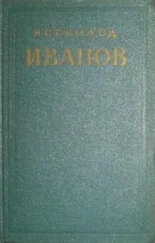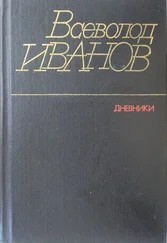Веселый, статный, могучий, он опустился на колено, поцеловал руку императрицы. А она схватила его голову и целовала, целовала без конца, словно хотела излить в него всю свою наболевшую душу…
- Гришенька! Родной, - шептала она. - Желанный мой! Как же я измучилась… Долго ли еще нам терпеть этого монстра?
Орлов вскочил, подхватил ее на руки. Она небольшая, но тяжелая. А такая уж дорогая, что и сказать нельзя. Положил бережно на канапе.
- Катенька! Лапушка! Сердце! Ангел! Все скоро готово. Как только поедет монстр в Данию воевать - все сделаем.
Через несколько минут Орлов уже успокоенным голосом, такой красивый в малиновом кафтане; с золотой шпагой, сияя смелым решительным взглядом, докладывал:
- Гвардия вся кипит… «Он» не зовет нас иначе, как янычарами. Потому - боится! Опасные люди - гвардейское дворянство… Хочет распустить полки Преображенский, Измайловский, Семеновский… Вчерась мы славно понтировали у Бековича, играли до свету. Кто играет, а кто шепчется. Сказывали, что тебя, матушку, он хочет в монастырь упрятать… Это тебя-то, родная, - и в монастырь!.. Ха-ха! Нет, говорят, скорей мы его упрячем туда, куда ворон костей не занашивал! Да все еще толкуют, почему-де о тебе, матушка, да о наследнике в манифесте ни слова не сказано.
Фике смотрит на Григория, прищурив длинные ресницы. Улыбается. Ах ты, русская силушка! Горячка какая! Орел! Недаром этот ее любовник да дервый заговорщик-внук стрельца Григория Орла, казненного Петром.
- Отойди, государь, от плахи, - сказал царю стрелец, - кафтан бы тебе кровью не обрызнуть!
Пожаловал тогда его Петр: взял заботу о его детях - Орловых - на себя.
И внук Орлов тоже герой. Три раза под Цорндорфом ранен, а устояв. Строя не покинул. И он тоже свою думу думает, а про себя держит. Их три брата - он, Григорий, Алексей - могучий такой, что медведя в одиночку берет, да Федор - гвардию подымают. За кого? За нее, за нее - свет Катеринушку, которая ну как есть матушка Елизавета Петровна, как две капли воды. Недаром так она по старой царице и убивалась. Недаром доселе траура снять не хочет. Немка, она ну как есть еще лучше, чем всякая русская, ей-богу!
Любовь любовью, а кроме того, со всех сторон вести идут - народ бунтуется. Между Тверью и Москвой мужики крепко встали против пруссаков… Все солдат с фронта поджидают. Команду из Москвы посылали - так мужики ту команду разбили, смяли… Послали полк с генералом Зиттеном - насилу их одолел. Укротил. И в Астрахани бунтуются. В Галицком уезде… Белевском… Волоколамском, Епифанском, Каширском, Тверском…. Мужики себе свободы тоже требуют, как дворяне получили. Ну, тут дело опасно - страшно мужичье-то море… Тут надо действовать осторожно, чтобы, народ против немцев поднявши, тем народом все царство не повалить, дворян не разогнать. Задумался Григорий.
Императрица спрашивает:
- Деньги-то все роздал или еще осталось? - Раздаю, раздаю - все от себя, матушка, раздаю… Благодарят солдатушки тебя за твое жалованье.
- Гриша, сядь-ка сюда!
И, навивая на белые свои пальцы его золотые, пшеничные кудри, шепчет Фике:
- Только ты смотри, Гриша, осторожней. Сила ты моя неуемная!
- Так, мы сила… И мы - твоя сила, Катя. Ты с нами и правь… Веди! Куда прикажешь, туды и пойдем!
- Куда уж мне указывать… Это пусть Панин Никита Иваныч показывает. Мое дело - вас миловать!
- Катя! - задыхается Григорий, - Катя! Э-э-эх! Расшибем кого хошь. Прикажи! Стеной встанем. И все так.
Все. Намедни гетман-то, Кирилл Разумовский, что отколол… И он тоже за тебя, Катя. Царь ему говорит: «Тебя-де я поставлю главнокомандующим, чтобы идти на Данию. Чтобы первого злодея моего, датского короля, взять да на остров Малабар послать. Саму-то Данию мы Пруссии отдадим, а мне только Шлезвиг бы достался! Веди ты, говорит, армию…» А Разумовский ему режет: «Ваше величество! Мне две армии надобны будут: одна вперед на Данию пойдет, а другая за ней, смотреть, стеречь, чтобы первая-то не разбежалась…!» Ха-ха-ха…
Хохот Григория потряс стены тихого кабинета. Катя зажала ему рот рукой.
- Что ты, господь с тобой! Ишь горластый. Услышат!
- А намедни ко мне еще офицеры Ингермангландского полка пришли. Осмелели. Жалуются, что у них в Ораниенбауме делается- беда. Наши солдаты к голштинцам как денщики приставлены - ухаживают за ними, сапоги чистят, кашу носят… Ей-бо! Ну, я и говорю - чистите, чистите, авось когда-нибудь и надоест…
Катя смеется вместе с ним, а точный ум ее отмечает: стало быть, в Ораниенбауме уже есть наши…
Читать дальше