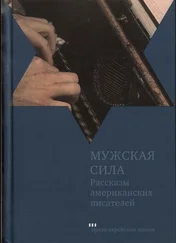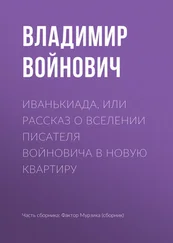Окерт был груб даже по жестким южноафриканским меркам, но как человек, выросший близко к земле, был способен к бурным, неожиданным при нелюдимом, сдержанном характере вспышкам чувства. Семь недель тому назад, когда он избивал перепуганного воришку-туземца, это был гнев; сейчас его охватило страстное желание прожить хоть до восхода солнца, умереть не в темноте, при ясном свете дня. Тут он вспомнил о горе.
Шестьдесят один год назад, спасаясь от преследующих их англичан, отряд из сорока верховых во главе с фельд-корнетом Годлибом Рейном перевалил через Стромберги и вошел в Клипсвааль. Отряд уже почти пять месяцев участвовал в боях, в нем было множество больных, порядком раненых, а лошадям досталось еще тяжелей, чем людям. Однако надежда, если она и была, на отдых и поддержку местных жителей не оправдалась; слишком много ферм было сожжено в долине, слишком много заложников расстреляно, чтобы клипсваальские буры рискнули еще раз навлечь на себя гнев англичан. Годлиб Рейн не получил почти никакой помощи и, что хуже всего, не достал лошадей, в которых так отчаянно нуждался, — всех их недавно реквизировали англичане. Через неделю его вытеснила из долины подоспевшая с севера колонна англичан; тогда Рейн, оставшийся почти без припасов, отвел своих людей к небольшой каменистой горе, которая одиноко торчала среди кустарников в добрых пяти милях от крутых предгорий. На вершине этой трехсотфутовой горы, в наспех сооруженной из камней крепости он ждал нападения, потом два дня выдерживал осаду и сдался, когда первые снаряды обрушились на самодельную крепость и стало ясно, что неприятель подтянул к месту осады артиллерию.
Хотя гору назвали в честь Рейна, не он первый искал здесь убежища. Рассказывали, что в старину тут же произошло еще одно кровопролитие: туземцы загнали на гору первых белых поселенцев и всех их перебили на ее каменистой вершине. Говорили даже, что и раньше, когда долина еще не была Клипсваалем, а всего лишь охотничьими угодьями бушменов, аборигены отправляли здесь некоторые свои мрачные обряды. Окерт знал эту гору всю жизнь, хотя за последние девять лет ни разу на ней не был. В детстве он играл здесь среди камней с Дани де Яхером. Как-то весной они задумали отстроить разрушенную крепость и целые дни проводили среди развалин, а приятелям высокопарно объясняли, что заняты восстановлением национального памятника, торжественное открытие которого состоится осенью. Но еще задолго до осени их увлекла новая забава, а гора так и осталась мрачным монументом незапамятных языческих времен. Зловещее место, но он может здесь спрятаться, может отсидеться, незамеченный солдатами. И через день-другой, если он не умрет, может быть, Дани догадается, где он, и придет сюда. Впрочем, через день-другой у него наверняка будет гангрена, а долину наводнят солдаты. Он встряхнул головой, решив не думать о том, что будет после рассвета; повернув Кобу к востоку, снова скользнул ладонью от шеи лошади к груди, и с руки закапала кровь. А ведь это только одна рана; где-то есть и другая. Поразительно, что лошадь все еще продолжает идти, хотя уже полчаса назад в нее всадили две пули; впрочем, пули были не охотничьи, к тому же, вероятно, не задеты жизненно важные органы. Но лошадь шла все медленнее, ее силы убывали с каждым шагом, ей не только идти — дышать было трудно; долго она не протянет. Окерт, всю жизнь проживший возле лошадей, как больных, так и здоровых, прикинул, что минут через двадцать Коба упадет. Но она выдержала вдвое дольше: более получаса брели они к югу, и когда взошла наконец поздняя луна, посеребрив кромку неба за горной цепью, лошадь все еще была на ногах. Когда Окерт почувствовал, что она падает, он сбросил стремена и, стиснув зубы, взмокнув от пота, сжался в ожидании неизбежного взрыва боли от удара раненой ногой о землю.
Но нога не стукнулась о землю. Коба опустилась тихо и осторожно, как верблюд, и ноги Окерта мягко коснулись земли.
Потом медленно, опираясь на винтовку, как на костыль, он поднялся и вынул из притороченной к седлу сумки то немногое, что еще могло ему понадобиться: фляжку с водой, пачку печенья и маленькую, но тяжелую картонную коробочку, где лежало пятьдесят винтовочных патронов. Он долго глядел на Кобу — лошадь уже запрокинулась на левый бок, грудь умирающего животного тяжело подымалась и опускалась, в ней что-то громко булькало при каждом вдохе и выдохе. Он ничего не мог сделать, чтобы прекратить ее мучения: выстрел услыхали бы патрульные; охотничьего ножа у него не было, только маленький перочинный, который Дрина сунула ему в карман и которым вряд ли удастся нащупать и перерезать большую артерию на шее Кобы. Он ласково погладил морду лошади и отвернулся — глаза ему жгли слезы; он и Кобу оплакивал, и себя — больше уж ему не ездить верхом.
Читать дальше