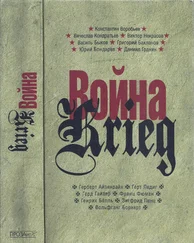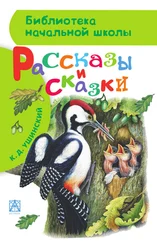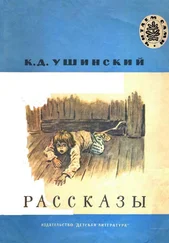— Куда это ты?
— Да вот пришел сюда, понимаешь… Просто пришел, — сказал я. В таких случаях люди против воли улыбаются почему-то жалко и просительно. Проделал это и я, и тогда Костяника торопливо сказала:
— Ну и хорошо, что пришел. Заходи к нам.
Букет свой я захватил с подоконника с собой, — ведь там его Костяника могла и не заметить.
Пол сеней и комнаты до такой степени был вымыт, что некрашеные доски казались восковыми и, между прочим, от них и пахло почему-то сотами. Я ступал по ним на носках своих пыльных ботинок, испытывая острое и странное желание пройтись по этой медвяной прохладе босиком.
Я сел у стола против белой вазы и внезапно разглядел густо-вороные ободки своих ногтей, заношенные обшлага куртки и далеко не новую, захоженную кепку. Я был уверен, что все это Костяника видит и осуждает, и оттого невпопад, с какой-то грустной и безотчетной обидой отвечал на ее вопросы, сам не спрашивая ни о чем. Наконец я взял со стола свой букет, загородив им пальцы, и сказал о ягодах:
— Посмотри. Они как запечатанные хрустальные бокальчики с вином. Правда?
— А ты все такой же, — усмехнулась Костяника.
— Какой?
— Радостный на слово.
Мне никогда и никто не говорил этого. Видно, я снова как-то неладно улыбнулся, потому что Костяника спросила тревожно и участливо:
— Неужели ты до сих пор одинок? Седеешь же!
— А ты?
Я спрашивал не о седине, но Костяника бережно провела ладонями по гладко зачесанным вискам и сказала мечтательно:
— Это я с войны еще…
Никто не знает, за что он любит или любим. Тот, кто долго живет с этой нелегкой радостью, на этот бедный вопрос отвечает бездумно, щедро и точно — за все!
Так мог бы сказать и я. Но я обязательно упомянул бы о ее взгляде — продолговатом, мило косящем, будто подстерегающем что-то хорошее и тайное. Этот взгляд у нее был «свой», с детства, но теперь я заметил в нем новое выражение — не то испуг и недоумение, не то призывное ожидание. Она все время словно прислушивалась, и не к нашей немногословной беседе, а к миру за окном, к его ночным звукам и шорохам. Я поглядел в окно. В пахучей тишине там текли пронизанные лунным светом сумерки, и вдруг явственно донесся свист иволги — сочный и манящий. Эта насмешливая, непотребно раскрашенная птица не поет по ночам, но я не ошибался, потому что Костяника тоже слышала этот свист.
Тогда и произошло то, что не следовало, возможно, мне видеть и знать. Костяника звонко засмеялась и порывисто кинулась из комнаты, прижав к подбородку ладони, как не осиливший радости ребенок. Иволга непутево просвистела уже под самым окном, а я ощутил разбег мурашек по телу, — все это показалось мне загадочным и жутковатым.
И все же я не пошел вслед за Костяникой. Я остался сидеть за столом, прислушиваясь к мужскому баритону за окном и ненавидя те внезапно возникающие паузы, когда он затихал, обрывая ее смех и голос. Там целовались.
А минут через десять я увидел Рогова. Он не вырос, но зато сильно раздался в плечах. И он был совершенно седой. В левой руке он держал небольшой лакированный чемодан, а правой обнимал Костянику, заглядывая ей в глаза. Я стоял за столом, сторожа его взгляд, чтобы поздороваться, но он меня не видел. Тогда я кашлянул. Рогов молча и как-то болезненно посмотрел на меня, затем на Костянику.
— Ой, я совсем забыла! Это Павел… Только что зашел к нам, — сказала она извиняюще и засмеялась чему-то.
— Павел? — спросил ее Рогов, будто меня и не было в комнате.
— Да. Ну тот… наш… помнишь?
— А-а! — вспомнил Рогов и тоже улыбнулся.
Я незаметно отодвинул за вазу свой костяничный букет. Его листья успели привять и сникнуть, но гроздья ягод по-прежнему мерцали свежо и жарко. Я понимал, что мне надо уйти, но как это достойно сделать — не знал, потому что они, эти двое, снова обо мне забыли. Они теснились возле чемодана, толкались и перемигивались, как дети, и Рогов в третий раз негромко объяснил, почему он задержался на десять дней, а не на семь, как предполагал: после совещания подводились итоги соревнования, и его лесхозу присуждена вторая областная премия.
«Обрадовались! — подумал я, закидывая рюкзак за спину. — Подбросили, видишь ли, на мещанское счастьишко. Комод, поди, завтра купите!.. Подумаешь, невидаль какая — директор! Тоже мне важная птица… Иволгой свистит, седой дурак!..»
Я снова напомнил о себе и стал прощаться, но Рогов ласково отнял у меня рюкзак и смущенно сказал:
— Извините. Ну, что это вы? Сейчас поужинаем вместе, потолкуем. Ну, извините ж!
Читать дальше