По старым патрульным дорогам
По приглашению пограничников я ехал на южную границу нашей страны туда, где тридцать лет назад началась моя солдатская служба. Ехал и думал, что снова увижу прокаленные солнцем серенькие селеньица возле редких колодцев; медленно, «на перекладных», как и прежде, буду продвигаться от заставы к заставе по патрульным дорогам, по которым никто не ходит, кроме пограничников; по ночам, в напряженной до звучания тишине, буду слушать вздохи усталой земли… В общем, я опять увижу и заново почувствую суровую и в то же время радостную романтику пограничной жизни. Так я думал.
Двадцать пять лет не был я на этой границе, поэтому волнения, которые не покидали меня всю дорогу, объяснимы.
Представитель политотдела части встретил меня на маленькой пограничной станции. Я стоял и растерянно глядел на розовые домики под красной черепицей, утопавшие в густой зелени садов, на черный асфальт дороги, пополам разрезавшей еще зеленую степь.
— Не узнаете? — заметив мое смущение, спросил Безгубов и понимающе улыбнулся.
— А где грязь? — спросил я.
Он рассмеялся.
— Все, кто здесь не бывал лет десять-пятнадцать, обязательно почему-то задают этот вопрос. Грязи здесь давно нет.
Машина мчала нас по блестевшему, словно застекленному, шоссе в сторону от моря. Упругий, пропитанный солью ветерок приятно обдувал лицо и руки. Я сидел и думал о прошлом…
Где-то недалеко отсюда тогда проходила другая дорога. Мы высадились у морского причала, которого теперь уже не существует, и пошли. Пошли служить. Мы только что приняли присягу. Тогда с моря ледяными рывками дул ветер, не переставая, сыпал мелкий дождь! А по дороге плыло просоленное моросью густое черное месиво. Мы шли пешком целый день и почти целую ночь, предусмотрительно выслав вперед боевое охранение. И помню, как озорной астраханский киномеханик Виктор Соколов, заплетаясь в тяжелых от грязи полах шинели, выбиваясь из последних сил, для чего-то рассказывал разные истории. Рассказывал он смешно, бесхитростно и душевно, мы смеялись и так нам легче было шагать. В часть мы пришли на рассвете, усталые и голодные. Никто не обратил тогда внимания на грязный пол, на непокрытые столы, пропитанные щами, на холодный сквозняк, дувший во множество щелей — голодного солдата не интересуют такие мелочи…
Небольшой старенький дом с террасой по всему второму этажу, в котором находился штаб, такая же старая и словно бы придавленная сверху казарма. Это наш гарнизон. Наш дом…
А машина, обдуваемая ветерком, легко катится вперед. Перед глазами мелькают строгие дорожные знаки, указатели всякого рода и даже рекламы. Кажется, что мы подъезжаем к большому городу.
Мой спутник поглядывает на меня с тихой, зажатой в прищуре глаз улыбкой.
— Ничего не понимаю, — признаюсь я, когда машина свернула за угол и покатила вдоль зеленого массива.
— Я вижу, — сочувственно говорит он. — Ничего, скоро все поймете. Вот наш штаб…
Часовой приветливо распахивает железные ворота, и мы въезжаем в городок.
Благоухающий, любовно взращенный парк предстал моему взору.
Совершенной белизны домики из пиленого камня приветливо выглядывают из глубины сада — никак не подумаешь, что это всего лишь солдатские казармы.
Нет, мне все еще не верится, что здесь на пустыре, где на моей памяти росла одна верблюжья колючка да бешеные огурцы минами взрывались под ногами пастухов, можно построить такой городок.
Я зашел в штаб и отдал солдатскую честь боевому знамени части.
Я не знаю, заметил ли молоденький часовой мое волнение, но я уходил от знамени и ничего перед собой не видел — в глазах стояли слезы. Может, оттого, что граница оставила во мне на всю жизнь какие-то светлые чувства благодарности. И до сих пор я еще считаю себя солдатом границы.
И вот я снова хожу по древней земле, по земле, которую некогда топтала конница Александра Македонского, которую жестоко зорили цари Исфагани, где текла кровь и слезы. Хожу, любуюсь ее картинами, и сердце мое наполняется радостью.
Читать дальше
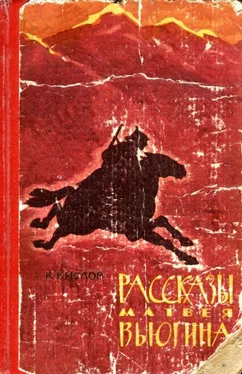
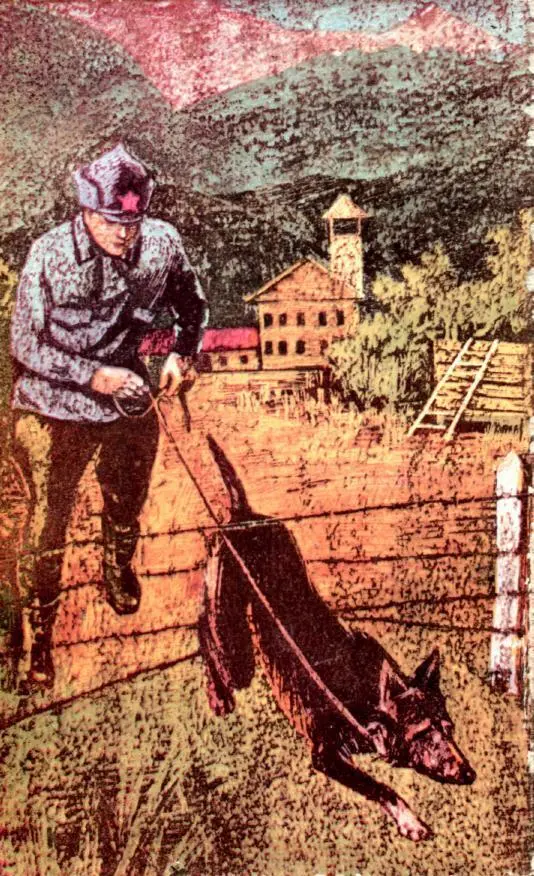




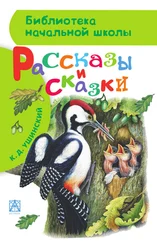


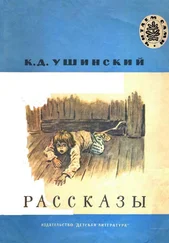

![Константин Кислов - На узкой тропе [Повесть]](/books/401588/konstantin-kislov-na-uzkoj-trope-povest-thumb.webp)



