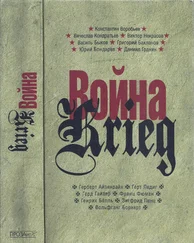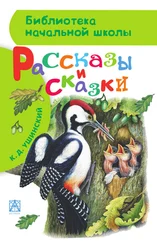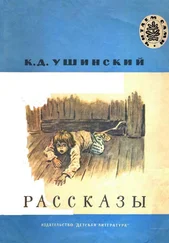— А буклы ты зря боишься. Это выпь, птица такая, из породы цапель.
— Птички по-бычиному не кричат, — резонно ответил Трофимыч и свернул к лосевским огородам.
А вечером я увидел его снова. Он шел куда-то вдоль улицы, то и дело поглядывая на красный закат, и что-то соображал. Над дорогой плавала розовая пыль, взбитая велосипедами дачных ребятишек, в небе копнились прожаренные за день облака, и во дворах оглушительно кричали дачные петухи, привязанные ситцевыми лентами за ноги: откармливались.
Мой юный сосед, не желавший по утрам пить третье яйцо, вечерами катался на «Орленке», что-то пел под Утесова и никому не уступал дороги. Не дал он ее и Трофимычу, и когда тот шагнул вправо, туда же, еще издали, повернул и дачник, неистово работая звонком и педалями. Трофимыч кинулся тогда влево, цепко следя за передним колесом велосипеда; оно вместе с песней стремительно накатывалось прямо на него. Все остальное уместилось в одну секунду: Трофимыч прирос к дороге, сжался, напружинился, а когда велосипед оказался от него в двух пядях, отпрыгнул в сторону и каким-то судорожным толчком рта гневно и коротко крикнул что-то дачнику.
Дальнейшие события разыгрались так: мой дачный сосед лежал в пыли рядом с велосипедом и не хотел вставать. Из отверстого рта его тек густой рев, а из носа — то, что в Лосевке зовут юшкой. Адам Егорович крепко держал за руку Трофимыча, хотя тот не пытался бежать и только временами поглядывал на закат: видно, торопился куда-то. Мамаша дачника шелестела над ним китайским халатом и умоляла меня позвать милицию.
— Скажите, она имеется тут или нет? Он же толкнул ребенка! Слышите? Толкнул…
— Я его не толкал, — без надежды на то, что ему поверят, сказал Трофимыч. — Он сам все время задавливал меня… И нынче тоже. А я только гавкнул на него. Всего-навсего раз…
— Вы слышали? Он на него гавкнул! Как вам это нравится? Он же мог убить ребенка до смерти! Идите и позовите сельсовет, если в этой дыре нет милиции.
— Не надо сельсовета, — вежливо сказал я женщине.
— А что же, по-вашему, надо? — изумилась она.
— Выпороть. Вашего сына…
Больше мне не удалось сказать ей ни одного слова: дама в китайском халате умела говорить такое, чего не умел я. Когда она ушла, волоча за собой упирающегося сына, я предложил Адаму Егоровичу освободить руку Трофимыча.
— А мне думается, — возразил он, — что его лучше поучить пять минут хворостиной сейчас, чем в совершеннолетие пятью годами по указу, а?
— А вы бы поучили дачника, — в тон ему предложил я, — он ведь у вас каждое утро цветы мнет.
— То дело не по мне, — каким-то скучным голосом отозвался Адам Егорович. — У него папаша на «Победе» ездит, пускай и учит.
Уходя, Трофимыч пытливо взглянул на меня и то улыбнулся длинно и загадочно.
В сумерках наступившей ночи я сидел в палисаднике и вдруг услыхал на дороге чьи-то шаги и голос Трофимыча:
— …а грибы не жарил. Масло взяло и разлилось. Да ты не горюй! Завтра ж у нас с тобой получка…
Я выглянул из-за плетня. Трофимыч шел с маленькой женщиной, в одной руке держал ее руку, а в другой — небольшую вязанку ослепительно белых в ночном мраке щепок. После в улице долго плавал терпкий запах скипидара и еще чего-то такого чистого и свежего, чему я не знал названия…
Несколько дней после этого я не встречал Трофимыча, и вдруг однажды утром он явился ко мне сам. Остановившись у дверей, он сперва стащил с головы видавший виды картузик, потом уже сказал:
— А я картошку окучивал. Только вчерась управился… Может, сходим опять туда за беляками? Там теперь страсть наросло их!..
Говорил он раздельно и четко, напирая на «р», отчего речь его приобретала какой-то особенно вдумчивый смысл.
Я заторопился в сборах, а Трофимыч осторожно присел на диван, незаметно качнулся на пружинах, незаметно изобразил на лице «ишь ты», затем стал разглядывать пишущую машинку.
У меня давно хранились охотничьи сосиски и так подсохли, что издавали костяной звук, когда я завертывал их в газету.
— Чтой-то? — удивился Трофимыч.
— Сосиски, — сказал я. — Вкусные. Никогда не пробовал?
— Мамка приносила раз, да только они не такие были, те мягкие, — сказал он и сглотнул.
Тогда я решил сперва позавтракать, а потом уже идти, но Трофимыч отодвинулся от стола, спрятал руки между коленами и заявил:
— Не буду… Это нехорошо.
— Что? — не понял я.
— Есть у чужих.
— Ну, — смешался я, — мы же с тобой не чужие. Мы ведь друзья.
— Все одно нехорошо, — стоял он на своем, а я подумал: «Ну, подожди до леса. Там я с тобой слажу!»
Читать дальше