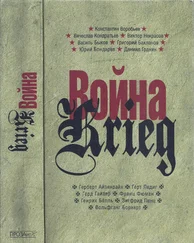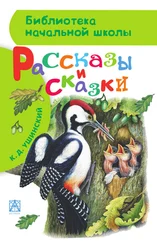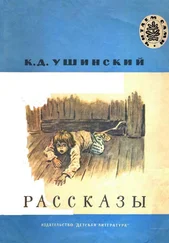Да это ничего. Трудности повсюду есть. Хуже стало потом. С половины зимы. Когда Чибачиху посадили на яйца. Колька сроду ее не трогал. На что она ему сдалась такая! Он только интересовался, что она там делает в кошелке под лавкой. Сидит и сидит. А Чибачиха переживала, когда он подходил. Такой крик поднимала, что долго не вытерпишь.
Снегу навалило в конце прошлой зимы — страсть одна! По огородам совсем нельзя было пройти. А Колька пролез. К школе прямо. Знал откуда-то, что Костик там. Конечно, он мог и лететь, но холод же был. А по улице не захотел идти. Собак боялся… Костик увидел его из окна. Стоит в снегу и сипит. Лапы аж позеленели. Клюв заледенел. Крылья распушились… Костик принес тогда его домой на плече. А бабка… Это она выгнала Кольку на снег. Укусил, говорит. За ногу. Как будто он собака, чтоб кусать! Он ее только клюнул. Может, и больно ей было, но ведь и Кольке не сладко от рушника… Она ж его все время стегала… Мало ей все… Поросенка жалела… Чибачиху берегла…
* * *
Это рассказал мне сам Костик Мухин. Мы сидели на берегу озера. Далеко впереди, над сизой грядой леса, большим, пламенным крылом размахнулся закат. Какая-то птица пешком пробиралась через осоку у наших ног. Я ждал конца, а Костик молчал.
— Ну? — осторожно спросил я.
— Ничего больше, — шепотом сказал Костик. Он трудно и затаенно ревел без слез. В таких случаях нельзя утешать человека, и я спустился к осоке и вспугнул дикую утку. Она полетела над самой водой и нырнула на середине озера.
— Ну? — не оборачиваясь, снова спросил я.
— Дальше не надо!
Костик крикнул это как под болью, и я запоздало понял, что продолжать рассказ не нужно.
1964 г.
Прошлым летом я жил в Лосевке — дачной деревне из полутора десятков домов, притаившихся на опушке знаменитой в нашем краю пущи. Хозяин, у которого я снимал жилье, числился в артели надомным сапожником, зачем-то притворялся хворым и душевным человеком. У него были разноцветные глаза — один голубой, а другой карий. Голубой обливал лаской, карий — злобой. Просыпался хозяин чуть свет, шел в одном белье в палисадник, просовывал голову в окно моей комнаты и, опасливо трогая клавиатуру пишущей машинки, сиповатым со сна голосом спрашивал:
— Уже маракуете?
— Тружусь, Адам Егорович, — коротко отвечал я, но это не сообщало ему уважения к моему занятию. Он тихонько хихикал и подмигивал темноватым глазом, будто намекал на что-то скверное, что я только что украдкой сделал, а он подглядел. Потом вытирал глаза, хотя оставались они сухими и хитровато настороженными, и в десятый раз допытывался:
— И, говорите, платят за это? Уд-дивительно! На чем только городские не поддедюливают!..
Я сразу припоминал косячки на своих ботинках — Адам Егорович взял с меня за них шесть рублей вместо одного, и мне хотелось сказать ему нечто определенно твердое, но сознание, что Адам Егорович — хозяин, удерживало меня от этого.
Так нас заставало солнце. Хозяин уходил одеваться, но в палисадник вбегал восьмилетний дачник — мой сосед. Он зарывался в анютины глазки и толстым голосом вопил: «Не хочу-у!» Простоволосая мамаша протягивала к нему сквозь изгородь яйцо и моляще грозила:
— Выпей третье, говорю! Выпей и не вынимай из меня последнее сердце!
На крик являлся Адам Егорович. Он начинал подсчитывать смятые головки цветов, и мне приходилось отправляться в лес…
Верстах в четырех от Лосевки я знал одно дремучее место. Там постоянно таился сумрак и прядали одряхлевшие вороны. Между седыми соснами большие пауки ткали липкие тугие сети. Длинные пегие ящерицы непуганно шныряли по земле, и временами что-то непутево ухало на дне низины, у протекавшего там ручья. Я приходил сюда с ружьем — для бодрости — и с корзинкой для боровиков: росли они тут сильные, коричневые, плотные. Чтобы не озираться то и дело по сторонам и слышать хоть что-нибудь живое, приходилось петь. В памяти тогда почему-то всплывали одни боевые мелодии, вроде того, что «Нас не трогай, мы не тронем». Но даже вдвоем с песней трудно было оставаться в этой глухомани более получаса: хотелось поскорее выйти к солнцу, к птичьим голосам, к жизни.
В этом месте, у подножия исполинского дуба, я нашел однажды великолепный белый гриб, а рядом с ним — сухую ветку с красным лоскутком ветоши. Ни того, ни другого я не коснулся и прошел мимо, но чуть поодаль обнаружил еще два гриба под такими же флажками.
Тогда мною овладело не совсем приятное чувство: я никогда никого не встречал здесь, и заметки над грибами казались странными. Словом, я не захотел взять эти грибы, потолковав сам с собой так: «Мало ли кому и для чего понадобилось примечать их тут!»
Читать дальше