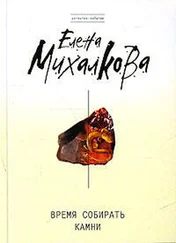Мило улыбнувшись, графиня заворковала:
– Мы так же направляемся к его высокопревосходительству. До скорой встречи господа.
Графиня с Бошняковым вошли в дом генерала, а друзья пошли своей дорогой.
***
«Уважаемый Иван Петрович!
Мой старинный приятель Павел Афанасьевич Бошняков, по своим делам направляется в Кречевицы.
Зная твоё радушие и желание помочь ближнему, прошу тебя оказать всяческую помощь господину Бошнякову, если таковая ему потребуется.
Передай от меня нижайший поклон супруге Наталье Дмитриевне, и дочерям своим и моим крестницам Нинель и Поленьке.
С глубочайшим уважением, князь Илларион Васильевич Васильчиков».
Прочитав письмо, Офенберг задумался. Генерал от кавалерии Васильчиков был шефом его полка. Они приятельствовал, но Офенберг был уверен, что никогда бы Васильчиков не обратился к нему с такой просьбой, о которой упоминал в своём письме. Что бы это значило? Взглянув на слугу, стоявшего у дверей, Офенберг спросил:
– Где этот Бошняков?
– Здесь-с. Ожидают вместе с дамой.
– Что ж зови.
***
Ночью ветер разогнал тучи, и всякий, кому вздумалось бы гулять в столь поздний час, мог лицезреть на небе ярко блестевшие звёзды и отливающую серебром луну. Кто же, однако, будет месить грязь в такую темень? По ночам только Ванька, сын купца Семенихина, бегал к молодой вдове Кудиновой. Да и тот сегодня умаявшись в лавке, дрых без задних ног.
Одинцов сидел за столом, и в задумчивости смотрел в окно. На столе горела свеча, лежала толстая тетрадь в кожаном, коричневом переплёте. Ничто не восстанавливало тишину и покой в его квартире. Кухарка Дарья мирно похрапывала на кухне, денщик Аристархов разместился на лавке в соседней комнате, и всё вздыхал во сне. Одинцов обмакнул перо в чернильницу, принялся писать:
«20 октября 1840 года
Закончился ещё один день в моей жизни. Что нового он принёс мне? Ровным счётом никаких изменений. День такой же серый, как и все остальные. Они похожи как горошины в мешке. Нет ни чего печальней гарнизонной жизни. Впрочем, вряд ли я бы лучше чувствовал себя в столице.
Неужели сплин, что сейчас так моден в Петербурге, поразил и меня? А я ещё потешался по этому поводу над Вольдемаром Воронцовым. Правда меня может утешать то, что скука моя не наиграна. К великому прискорбию, она настоящая, и от того печально мне.
Сегодня командир батареи, полковник Штольц, в очередной раз пытался вызвать меня на откровенный разговор. Забавно наблюдать, его потуги казаться отцом-командиром, радеющим о своих подчинённых. К чему ему всё это? Вероятно, считает своим долгом, влезть каждому в душу, и копаться там как в своём кармане.
Впрочем, что я взъелся на него? Штольц по-своему милый человек».
Обмакнув перо в чернильницу, поручик продолжил:
«На досуге прочел труд Лафатера: «Физиогномические фрагменты, способствующие познанию людей и любви к людям». Согласно этому трактату, Штольц должен обладать буйным характером, о чём говорят его густые брови и крутой лоб. Однако бедняга полковник, под каблуком у своей жены, которую боится пуще начальства.
Сегодня он час мурыжил меня, пытаясь узнать, почему я прослужив три года на батарее, так и не нашёл общего языка ни с кем из офицеров, редко посещаю офицерское собрание. Что мне было ответить?
Не прельщают меня игра в штос и попойки до утра, а больше здесь заняться не чем.
Впрочем, так живут везде, и в Петербурге не лучше. Потому, нигде не будет мне хорошо и покойно. Скорее всего, в моём положении наилучшем выходом будет подача рапорта об отправке на Кавказ. Вот где настоящая жизнь! Много тревог и опасностей. Заодно проверю на личном опыте всё то, о чём писал в своих повестях Марлинский.
И так решено, подаю рапорт!»
Одинцов усмехнулся, вспомнив, как однажды с грустью признался его старший брат: « Понимаешь Алёшка, всё время события проходят мимо меня! В 1825 году мои товарищи вышли на Сенатскую площадь, а я в это время отирался в парижских кафе».
Пётр Одинцов входил в Северное тайное общество, в ноябре 1825 года он уехал в Париж. Из газет узнал о неудавшемся восстании в Петербурге, и последующих арестах членов общества. Решил, раз он не был со своими товарищами на Сенатской площади, то, по крайней мере, разделит с ними горькую участь заключения, но его не арестовали. Предписали следовать в родовое имение Константиновка Саратовской губернии, где и надлежало ему пребывать.
Через год Пётр получил дозволение вернуться в Петербург, но предпочёл остаться в Константиновке. Он решил воплотить в жизнь свои идеи по переустройству страны, начав с деревни. Но и тут его ждало горькое разочарование! Мужик, которому Пётр с друзьями жаждал дать свободу, не торопился брать её. На деревенском сходе, он объявил крестьянам, что собирается дать им вольную. Любой желающий может взять у него в аренду землю и обрабатывать её, а не хочет, может отправляться на заработки.
Читать дальше