Но Доран молчал. Он действительно любил графа Хэммонда — давно, ровно и преданно, не раз убеждаясь в его благородстве. Но, оказывается, были вещи, о которых он не мог говорить ни с кем. Снова и снова ловил себя на невозможности слов, сам не понимая, что с ним. Его сиятельство, видя его состояние, не настаивал.
Легче всего Дорану было с Коркораном, он понимал все без слов, читал в нём, как в книге. Теперь Патрик недоумевал, как мог сомневаться в этом человеке, подозревать его в какой-то низости. Он любил его, при виде его испытывал удивительное, смущающее его самого чувство светлой и искренней радости. Коркоран был чудом, живым воплощением Истины, подлинным человеком.
Но происходило и ещё нечто настолько странное, что Доран вовсе терял дар слова. Клэмент Стэнтон поправлялся мучительно медленно, но, к радости мисс Бэрил, каждый день приносил пусть ничтожное, но улучшение его состояния. К удивлению Патрика и Кристиана, ежедневно перестилавших ему постель, обмывавшим его и кормившим, тот не остался равнодушен к их заботам. Его смущали их услуги, он стыдился собственной слабости, но благодарил и кузена, и отца Дорана со слезами на глазах, чем, в свою очередь, выводил из равновесия их обоих. Войдя в его спальню под вечер с подносами, оба переглянулись и опустили глаза: Клэмент целовал руки Бэрил, называя своей милой сестрёнкой…
…Сам Стэнтон, в истерике и злости убежав на болота, пришёл в себя достаточно быстро — как только выгорел фонарь и он оказался в страшной, непривычной лондонскому жителю лесной чаще. Хлипкий мочак пугающе расплывался и проваливался под ногами, звуки топи ужасали, странные огни то загорались, то гасли над смердящими метановыми парами. Он понял, что сглупил — мисс Софи здесь не было, да она и не могла пойти сюда. Внезапно хлынул дождь, размывший последние следы, растерянный и испуганный, он укрылся под древесной кроной, но все равно вымок до нитки. После того, как шум дождя затих, решил вернуться, но обратной дороги в темноте не нашёл. Когда рассвело, он попытался разыскать тропинку, но заблудился, споткнулся, слетел с холмистого взгорья и растянул щиколотку. Некоторое время ещё пытался двигаться ползком, но ноги подвели снова, он не заметил камня на склоне, и упал в ручей, повредив голень. Силы оставляли его, голодный, мокрый, продрогший и обессиленный, он уже не на что не рассчитывал. У него хватило сил нагрести валежника и просто упасть на него.
Потом пришло забытьё — и с ним тягостные видения. Сначала это были просто обрывки недавно случившихся событий. Вспомнилась и злая угроза Кристиана и его слова о мисс Хэммонд. Где она, безоглядно влюблённая в Коркорана, совсем потерявшая голову? На него она никогда не смотрела так, как на кузена… Разговор с Кэмпбеллом… «В обществе поговаривали всякое. Уронили и известный намёк, что наследство Чедвика было платой за определённые услуги, оказанные ему Коркораном, и говорили, что они сродни тем, что добился Никомед Вифинский от Цезаря…» Всплыла в памяти и оплеуха, что с тёмными от ярости глазами закатил ему Коркоран… Кэмпбелл не вызвал Коркорана… Бэрил. Извинившись перед сестрой по требованию Коркорана, он сорвал на ней зло позже, наедине, а заметив, что она слишком-то задета его словами, разозлился ещё больше, едва не ударив её…
Он несколько раз терял сознание, но когда приходил в себя, снова и снова проваливался в тёмные воспоминания. Жизнь погасала, уходила из него. Всё вдруг показалось пустым, мелким, незначительным — и Софи, и устремления, что занимали его — титул, деньги, поместье…
В нём потекли совсем иные, пугающие мысли, ибо в каждом есть глубины, куда он боится заглянуть, бездны, которых он страшится. Теперь бездна подошла так близко, что он не мог не вглядеться в неё. Он остался наедине с собой, и это стало подлинным кошмаром, он не был готов к подобному. Быть перед лицом себя самого: без прикрас, без защиты — страшно, опали тысячи вещей, которыми он закрывался от пугающего самопознания. Теперь из бездны вставали чудовища. Сколько злобы, сколько лжи, жадности, вражды, сколько холодного безразличия, сколько жестокости… Господи, зачем он жил? Зачем он оказался на этой земле, если сейчас, погибая, ему нечего вспомнить, кроме мерзости? Он догадывался, что его друзья — откровенные подонки. Но почему верил их словам? Да потому, что мыслил также — как подонок. Хладнокровно был готов отдать сестру за подонка, хладнокровно копил деньги, урезывая во всем сестру — но не самого себя. Все, чего он искал — было благом только для него, — и кого бы он ради этого не растоптал? Но зачем все это? Он умрёт. Обречён. Господи, кто завтра вспомнит о нём? Дружки проронят пару слов за обедом с деланным сожалением. И всё. И всё?
Читать дальше

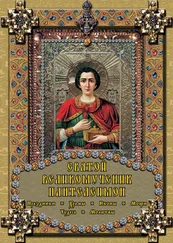
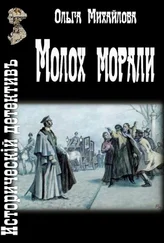







![Ольга Михайлова - Книжник [СИ]](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-thumb.webp)
![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)
