Две минуты.
Две минуты — это целая жизнь. Каждая секунда, пока Лео спит, — это целая жизнь. Словно я должна прожить сто двадцать жизней, не чувствуя, как натужно бьется сердце в груди, как быстро кровь бежит по венам.
Две минуты — это мгновение ока. Это время, когда все может измениться. Лео может проснуться за эти две минуты. Он может проснуться за тридцать секунд, а потом полторы минуты думать о том, почему меня нет рядом. Почему я не жду его, как обещала перед тем, как он заснул.
Кейт просит у меня не две минуты. Он просит у меня целую жизнь. И мгновение ока. Он просит все пространство и время. Он создал для меня снегопад, и теперь я должна отдать ему все пространство и время.
— Ладно? — повторяет Кейт. — Две минуты. Ради меня. Ради нас. Давай насладимся снегом, насладимся этими двумя минутами нашей годовщины, а потом, когда две минуты пройдут, мы вновь станем сильными. И нам будет легче вернуться к нашей реальности. Ладно?
Я смотрю на его лицо и впервые с тех пор, как началась эта жизнь, вижу моего мужа. Он чужой мне человек. Его черные глаза, широкий нос, полные губы, кожа цвета красного дерева — все это кажется чужим. И, наверное, сейчас я тоже кажусь ему чужой. Основа наших отношений начинает рушиться. Я знаю, что супружеские пары часто разводятся, потеряв ребенка, но я не осознавала, что к разводу может привести и болезнь. Медленно, коварно, незаметно, но все же неотвратимо. «В горе и радости…» Мы поклялись в этом. Но мы не думали, что клянемся быть вместе, когда мы бессильны.
Мы с Кейтом по-разному справляемся с проблемами.
Ему нужно разделять свое время в критических ситуациях. Чтобы превозмочь горе от комы Лео, Кейту нужно отстраниться, пополнить запас душевных сил, а потом вернуться к реальности. Вернуться, словно в бой, где он может сражаться с тем, что уготовила ему судьба.
А я словно врастаю в горе. Я думаю о случившемся все время, я хочу, чтобы это закончилось, я надеюсь, жду, что все образумится. И я знаю, что как только перестану делать это, случится что-то страшное.
Вот почему мы отдаляемся друг от друга. Наши методы борьбы с горем несовместимы, и хотя мы знаем о боли другого, мы ничем не можем помочь. Вот почему нить за нитью ткань наших отношений расплетается. Вот почему Кейт устроил для меня снегопад. Он хочет, чтобы я испробовала его метод. Хочет посмотреть, не сработает ли это в моем случае. Хочет узнать, есть ли у нас шанс.
— Ладно, — я улыбаюсь. — Хорошо.
Две минуты. Я могу подарить ему две минуты. Может быть, это сработает. Может быть, это спасет нас. В конце концов, это всего лишь две минуты. Я стою и наслаждаюсь снегом в мае.
Лео повернулся к маме. Она склонилась над книжкой. А ведь сейчас она должна была смотреть на экран! Мама — непослушная девочка. Это она включила «Боба-строителя», значит, она тоже должна его смотреть. Лео нравилось сидеть у себя в комнате и разрисовывать фломастером стену, но мама привела его в гостиную и включила «Боба-строителя». Лео не очень любил этот мультик, зато он нравится маме. Она его включила — значит, должна смотреть.
— Мама, не цитай книзку. Смотли «Боба», — сказал он.
— Что? — Мама подняла голову.
— Не цитай книзку. Смотли «Боба». — Лео столкнул книжку с ее колен.
— Я просто хотела дочитать гла… — Она осеклась. — Ну ладно. Я буду смотреть «Боба-строителя». — Мама повернулась к телевизору.
— Мо-одец, мамочка! — Лео потрепал ее по колену. — Мо-одец!
Лео в возрасте двух с половиной лет
Мне нужно покурить.
Больше всего на свете мне сейчас нужно покурить. Это поможет мне успокоиться, снизит жар в крови, а то мне кажется, что она вот-вот вскипит. Дым создал бы физический барьер между мной и Мэлом, хотя духовного барьера, разделяющего нас в машине, вполне достаточно. Не знаю, кто из нас решил не разговаривать с другим, но мы не разговариваем.
Прошло уже пятнадцать минут с тех пор, как мы уехали из дома наших друзей, и все это время мы провели в гробовой тишине. Злость нашего молчания заглушает, кажется, и мерный рокот мотора, и наше дыхание, и тихое пощелкивание где-то в недрах машины. Домой ехать еще минут пятнадцать, и всю дорогу мы будем молчать. Это уж точно.
А самое худшее — и при мысли об этом у меня возникает ощущение, словно тупой нож врезается мне между ребер, ковыряет мою плоть, пытаясь найти так и не зажившую рану, — Мэл считает, что не сделал ничего плохого. Он действительно думает, что не сделал ничего плохого.
Читать дальше

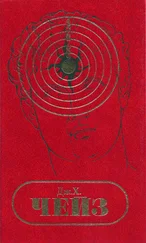




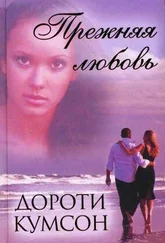
![Кэтти Уильямс - Скажи машине «спокойной ночи» [litres]](/books/420479/ketti-uilyams-skazhi-mashine-spokojnoj-nochi-litre-thumb.webp)

