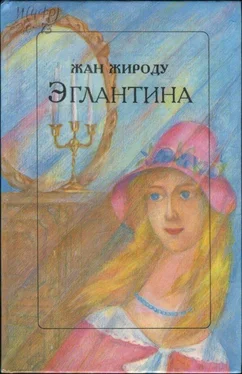Он сам проводил ее до автомобиля. Она на миг прижалась головой к его плечу, которое доселе знало тяжесть одних только голов умерших родных, когда он переносил их тела из спален на парадное смертное ложе… Вот почему он удивился, ощутив живое тепло прильнувшего к нему тела… Голова Эглантины чуть приподнялась и коснулась его щеки, и эта прелестная головка без шляпы, с гладко зачесанными назад и коротко остриженными на затылке волосами была такой пугающе обнаженной, что Фонтранж снял собственную шляпу, точно в лифте отеля… Да ему и впрямь почудилось, будто он возносится куда-то вверх, в заоблачные дали…
19 июня 1926 года, когда Моиз наконец договорился с турецкими министрами о создании телефонной линии Париж-Стамбул, приложив к этому куда больше изобретательности и усилий, чем Леандр, переплывший Босфор, и даже лично открыл эту линию, ему доложили, что номер 71–12 в Пасси, несмотря на упорные вызовы, не отвечает. А ведь он заранее известил Эглантину сначала письмом, а затем телеграммой о том, что будет звонить в назначенное время; тем не менее, телефон молчал. Напрасно Моиз битый час просидел за аппаратом, пренебрегая своим долгом позвонить в первую очередь французскому министру почтовых служб, или господину Думергу [29] Думерг Гастон — президент Франции с 1924 по 1931 гг.
, или турецкому послу в Париже, как того требовал протокол. Он вернулся в гостиницу лишь к вечеру, а за его спиной по новому проводу — этому телефонному Симплону [30] Симплонский туннель, самый длинный в мире, соединяет Швейцарию с Италией.
, обязанному своим появлением крупнейшему из банкиров, уже неслись бурным потоком цифры за цифрами, с парижской Биржы прямо в Галату [31] Галата — деловой квартал в Стамбуле.
. В передней толпились посетители, знавшие о его скором отъезде. Он принял всех, за исключением именно тех трех человек, которых особо настойчиво приглашал к себе. Археологу, которого он почти уже нанял для реставрации дворца Феодоры, садовнику-пейзажисту, что стремился украсить кипарисами сады и кладбища в Скутари за смехотворно низкую плату, и дельцу, предлагавшему очистить Босфор от позорящих его нефтяных баков, было объявлено, что на них времени не хватит. Зато архитектор Моиза нежданно получил разрешение надстроить еще на четыре этажа современное здание, и без того заслонявшее фасад Святой Софии со стороны Мраморного моря… Вот так бегство Эглантины обезобразило самый живописный уголок на земле.
Тем же вечером Моиз сел в парижский поезд. Нельзя сказать, что он надеялся вновь завоевать Эглантину или хотя бы увидеть ее. Он и покидал так поспешно Константинополь именно потому, что все вокруг напоминало о ней. Он злился на самого себя: надо же было уехать за тридевять земель, чтобы облечь свои страдания в новую, еще более острую форму! К чему переводить на турецкий язык, столь близкий его родному наречию, в удушливой жаре, знакомой ему с рождения, те слова, которые во Франции причинили бы куда меньше боли?! И он спешил поменять ленивые воды Азии на парк Монсо, острова Мраморного моря на Нейи. Вот, собственно, и все. Ему даже не пришлось объясняться по этому поводу с Шартье, умевшим прятать концы любовных связей патрона ловчее следов преступления; тот по собственному почину распорядился подарками, в обилии прибывавшими на имя Эглантины из Константинополя с каждым курьером, под официальными печатями, словно королевские презенты, ибо Моиз отправлял их с дипломатической почтой шести или семи посольств и миссий, чьи депеши, обычно столь разноречивые, на сей раз дружно сопровождали это их общее сокровище. В результате количество безделушек на квадратный километр в Париже превзошло даже то, что могла бы оставить после себя умершая в изгнании наложница турецкого султана… и этим все было сказано. В один прекрасный день Моиз нашел в ящике комода полупустой флакон духов Эглантины и заячью лапку для стирания пудры, но ничто не дрогнуло в его сердце… Любая разлука была для него окончательной, любая ссора означала верный разрыв. Женщине, причинившей ему горе своим уходом — по своей ли, по его ли вине, с обоюдного согласия или без такового, — уже не было доступа в мысли Моиза; она становилась в его глазах бесплотным призраком, и, случись им встретиться, он посмотрел бы сквозь нее. Чем крепче была прошлая любовь или дружба, тем сильнее становилось потом отчуждение и тем бесполезнее — разговор с бывшей подругой. Моиз не признавал бесед с мертвыми; вот и с этими тенями он мог говорить разве что о погоде и приветствовал их так же скупо, как похоронную процессию. Он даже удивлялся известиям об их смерти: ведь для него они давно уже были мертвы. Его месть также выливалась в мгновенное и прочное забвение. Тот зоологический интерес, который Моиз питал к людям и их делам, пусть даже речь шла о его дворецком, моментально и полностью испарялся в самый миг обиды, когда другой на его месте еще только начинал бы лелеять планы мщения. К примеру, Энальдо мог на его глазах ковырять в носу или коллекционировать дрянные литографии, но со дня их ссоры Энальдо больше не существовал. Он отсек от себя Энальдо со всеми его прикрасами, как гангренозный палец. И с той поры Энальдо был волен делать все, что угодно, хоть ноги класть на стол, — Моиза это абсолютно не трогало. Одна из дам, когда-то зло подшутившая над Моизом, попыталась вернуть себе его расположение, явившись перед ним обнаженной до неприличия; Моиз этого даже не заметил. Все подобные существа — и отныне Эглантина в их числе — навсегда утрачивали жизнь и краски, а с ними и способность запечатлеться на его сетчатке.
Читать дальше