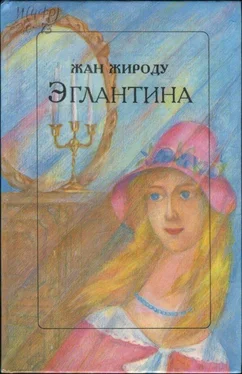По правде говоря, сама Эглантина вряд ли заметила эту метаморфозу, Для нее разница между Моизом безобразным, но невозмутимым, и Моизом красивым, но взволнованным, была так же неощутима, как между Эглантиной-простушкой и Эглантиной, осыпанной драгоценностями. Моиз же приписывал ее возросшее доверие постигшему его чуду, воображая, будто сам пользуется всего лишь рассеянным сочувствием Эглантины. На самом же деле он был в настоящий момент единственным ее прибежищем. Беллита уже два месяца как обреталась в Риме; она каждый год ездила туда, поскольку исповедовалась только папе. Фонтранж бесследно исчез с того самого вечера, как увидел Эглантину в бриллиантах, и не отвечал на письма. И вот Эглантина, не привыкшая запирать на ночь дверь и заглядывать под диваны, начала, с наступлением утра, испытывать страхи, обычно терзающие людей по ночам. Растерянная, страдающая от тайных ранок в сердце, неведомых окружающим, она переносила на дневную действительность смутные треволнения сна. И любила Моиза именно за то, что он казался ей единственно реальным, единственно живым существом. Когда она свирепо щипала себя за руку, все качалось и плыло перед ее глазами, один Моиз оставался незыблемым, как скала. И хотя доселе Эглантина не получила от жизни ничего, кроме скромного задатка, ее мучили предчувствия тех, кто от рождения обречен на тяжкие несчастья. Она никогда не пугалась по пустякам, не боялась комаров или вывиха ноги, зато испытывала ужас перед молнией, перед бешеными собаками. На ее лице лежала печать безграничного спокойствия тех веков, когда приходилось опасаться лишь чумы да пытки, — вот их-то она и страшилась. Не для нее составлялись правила движения такси или нанимались ночные сторожа, но именно для нее изобрели вакцину и громоотвод. Она была идеальным, чистым — и сколь редкостным! — исключением из великого множества людей, от которых отличалась и высшей неуязвимостью, и высшей прочностью. К тому же Эглантине были чужды и мелкие повседневные заботы, назойливо осаждающие наши сердца; ее не трогали ни дождь, ни безобразие прохожих, она не испытывала внезапных приступов жалости к полицейским или консьержам; одни лишь сильные душевные переживания имели над нею власть. Будучи сама громоотводом в густой парижской толпе для искренней нежности, искренней веселости, она ничего не знала о других опасных страстях, а лишь смутно ощущала, как грозно реют они над Парижем, в синих прорехах озябших небес, и вдруг, на углу какой-нибудь улицы или в сквере, ее охватывал тоскливый страх, словно одинокого путника в лесу. И когда она, вынырнув из глубокого сна, разделенного четко, как дневное время, на периоды, на обычные, спокойные события, оказывалась лицом к лицу с предстоящим днем, ее начинали неотступно терзать беспокойство и неуверенность. Только рядом с Моизом ей нечего было знать, нечего бояться. И она радовалась этой исходившей от него силе, которая защищала ее от законов природы, не говоря уж о законах людей: от громадных авто, спасающих этих бедняжек — слабых женщин — от пространства и ветра; от лакеев с гигантскими зонтами, которые у входа в ресторан так ревностно укрывают посетительниц от града, словно с небес вот-вот посыпятся цветы или фрукты; от услужливого метрдотеля, подменяющего собой нескончаемое меню; весь этот набор привилегий, что так усердно коллекционируют выскочки, Эглантина принимала просто и естественно именно в силу чрезмерной скромности.
Даже тяга Эглантины к роскоши объяснялась ее неодолимым ощущением слабости, а примерная жизнь зависимого от других существа нуждалась в богатстве и знаменитости Моиза как в главной и необходимой опоре. Да, дело обстояло именно так: все деньги Моиза в данный момент имели только одно оправдание — защиту тощего кошелька со ста десятью франками, единственным сокровищем Эглантины. Ни одна женщина не внушала Моизу подобной приятной уверенности в том, что она искренне хочет опереться на его силу, устойчивость, мощь. Прежние связи всегда зиждились на темных сторонах его души. И вот теперь он наконец постиг истинный смысл слова «покровитель», так часто толкуемого превратно. Даря Эглантине меха, он действительно стремился лишь к одному — защитить ее от холода. И какими только изысканными блюдами не защитил бы он ее — навсегда, если она пожелает, — от голода и жажды! Он заказывал огромный лимузин, чтобы защитить ее от длинных расстояний и скользких банановых шкурок на тротуаре. Но особенно умиляло его сознание того, что она была первой женщиной, которую ему не пришлось защищать от самого Моиза…
Читать дальше