- Это еще зачем? - сказала я и страшно обрадовалась, но проговорила по возможности равнодушно: - Ты что, больше не можешь жить без меня?
- Я прекрасно могу обойтись без тебя, - сказал Франц, - и как же я буду радоваться, когда ты после Нового года уедешь обратно.
Я никогда не была в Лугано.
- Ну и как там в Лугано, - спросила я, - ужасно?
- Мерзко, - сказал Франц. - Старые дома, а перед ними пальмы, увитые глициниями, которые цветут такими отвратительными лиловыми цветами, везде олеандры с их противным запахом и жуткое озеро посреди омерзительных гор. И они пьют здесь отвратительное вино, достаточно четырех бутылок этого пойла, чтобы напиться. Так что подумай хорошенько.
- Ты мне обещаешь, что мы будем все время ругаться? - спросила я, и Франц ответил:
- Слово чести. А ты не должна никому рассказывать, что едешь ко мне, ведь я могу тебя незаметно придушить, а труп выбросить в озеро. Идет?
- Изумительно, - сказала я, - но не забывай, что я уже мертвая. Я не верю, что я доберусь до Лугано, я не могу добраться до кухни, Франц.
- Ты полетишь, - сказал Франц, - до Милана, там пересядешь на поезд и через час будешь в Лугано, я тебя встречу.
- Не встречай меня, - сказала я, - может быть, мне посчастливится, и самолет упадет, а ты меня прождешь напрасно.
- Хорошая мысль, - сказал Франц. - Я мог бы где-нибудь под Кияссо положить на рельсы бревно, и твой поезд пойдет под откос, как тебе такая идея?
- Великолепно, - сказала я и вдруг заплакала, а Франц сухо спросил:
- Самоубийство как способ покончить со скукой?
- Нет, - сказала я, - нервное истощение, я хотела из-за этого выброситься из окна.
Я подумала о нашей кошке, которая в один прекрасный день упала с крыши, вот так, а мы-то думали, что это не случится никогда. Она привыкла гулять по крышам, и с нашего балкончика я часто наблюдала, как она сидит на солнышке и умывается, высоко, рядом с дымовой трубой, перед телевизионной антенной, на которой ворковали толстые голуби. Однажды она поскользнулась, попала в воздушный поток, от неожиданности не смогла остановиться и рухнула в бездну, пролетев мимо всех выступов и балконов, все пять этажей. Я увидела ее, неподвижно лежащую внизу, и была не в состоянии спуститься за ней.
В конце концов вниз побежал Франц и долго не возвращался. Мы больше никогда не говорили о кошке, и в этот год мы стали чужими друг другу. Мы просто больше не могли о чем-нибудь говорить всерьез, мы стали циничными, и ироничными, и нечестными друг с другом, и мы оба страдали из-за этого, но измениться не могли.
- А ты ведь меня не узнаешь, когда я приеду, - сказала я, - я стала старая, седая и противная. - Я вздернула нос кверху, встала с пола и плюхнулась в кресло, чтобы выправить осанку.
- А ты всегда была отвратительной, - ответил Франц, - я только никогда не говорил тебе об этом. А я ослепительно прекрасен, как всегда.
- Ну, это мы еще посмотрим, - сказала я. - Я приеду в Сочельник, если еще что-нибудь будет летать.
У меня было такое чувство, что он искренне обрадовался, и я, возможно, была спасена.
Я закрыла глаза и пролежала в кресле не то полчаса, не то час. Я слышала шумы в доме, хлопанье дверей, мужской голос, быстрые шаги, а с улицы поднималось наверх злое брюзжание Берлина, такой непрерывно нарастающий звук, как бывает перед взрывом котла, - и вдруг я представила себе Лугано как маленький игрушечный городок с красными крышами под снегом.
Ранним утром 23 декабря я бросила в дорожную сумку пару пуловеров и джинсы, очки, всяческую дребедень, немножко белья, туалетные принадлежности, две пары туфель, старое черное шелковое платье с потускневшим узором из роз, пару книг, дорожный будильник и забежала в торговый центр "KaDeWe", чтобы купить Францу подарок - эльзасскую горчицу. Там есть такой отдел, где продают восемьдесят или сто различных сортов горчицы, в стаканчиках, тюбиках и глиняных горшочках, - горчицу острую, сладкую и кисло-сладкую, жидкую и зернистую, светло-желтую и темно-коричневую, и вся извращенность Запада, все невыносимое бахвальство надутого, загнившего, лживого города Берлина концентрируется для меня в непостижимости этого отдела горчиц - мир охвачен пламенем, идет война, люди голодают и режут друг друга, миллионы спасаются бегством, и у них уже нет крова, дети умирают на улице, а Берлин озабочен выбором из ста сортов горчицы, ибо нет ничего ужаснее, чем неправильно выбранная горчица на тщательно накрытом к ужину столе. Но я бы купила ее, я бы поднялась наверх на лифте и купила бы для Франца, циника Франца, этого унылого интеллектуала, для Франца, насмешника с глубокими складками по обе стороны носа, для Франца, с которым я провела столько отчаянных ночей и лживых дней, я купила бы для Франца эту крупнозернистую, темно-желтую остро-сладкую эльзасскую горчицу в глиняном горшочке, запечатанном пробкой, если бы не увидела на первом этаже свинью. Эрику.
Читать дальше




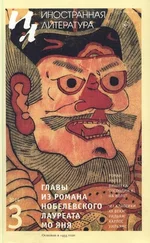


![Эльке Хайденрайх - Все не случайно [Книга воспоминаний]](/books/409846/elke-hajdenrajh-vse-ne-sluchajno-kniga-vospominan-thumb.webp)



