Эльке Хайденрайх
Лучшие годы

Только один-единственный раз мне довелось путешествовать вместе с моей мамой. Ей в ту пору уже стукнуло восемьдесят, но она все еще держалась прямо, была деятельна и полна сил, а у меня в сорок пять уже начались боли в спине, я чувствовала, что старею, да и вообще была собой недовольна. Мама жила в маленьком городе на юге Германии, в квартире у нее царил идеальный порядок, я же поселилась в большом городе на севере, и у меня вечно был кавардак. Когда мама постарела, я стала приезжать к ней чаще, впрочем, безо всякой охоты, потому что мы с ней не особенно ладили. Но мне казалось, что я могу ей понадобиться, что, дожив до столь преклонных лет, она постепенно будет дряхлеть, станет неловкой, забывчивой, и раз в пару месяцев я ездила к ней — помочь с кое-какими делами, привезти на машине продукты из «Альди», снять занавески, взобравшись на стремянку, постирать их и снова повесить. Весной я сажала на ее балконе цветы, осенью их обрезала, а горшки с цветами убирала в подвал — в общем, делала все, что полагалось единственной дочери, хотя бы из чувства долга, совсем не обязательно из любви. Но всегда выходило так, будто это я сделалась дряхлой, неловкой, забывчивой, а вовсе не она. Глядя, как, стоя на стремянке, я вожусь с занавесками, она меня поучала: «Не лапай их, а то опять станут грязными». Или была недовольна тем, как я обре́зала азалии. Мама никогда не говорила «спасибо», не могла выдавить из себя даже простого поощрения, вроде: «Молодец, Нина». Нет, это было не в ее стиле. У нас дома вообще не принято было хвалить. Самое большее, что она могла сказать: «Ну, это еще куда ни шло». Даже когда маленькой девочкой я приносила пятерки из школы, реакция была всегда одна и та же: «Ну, это еще куда ни шло».
Приехав к маме, я останавливалась в гостинице. Бюргер, метрдотель, всякий раз при встрече целовал мне руку и приговаривал: «Ах, фрау Розенбаум, не устаю восхищаться, с какой любовью вы заботитесь о своей дражайшей матушке, мало найдется таких дочерей, тем более, что вы так заняты!»
В то время я работала в газете, и Бюргер всегда оставлял для меня свежий выпуск; если в нем была моя заметка, то он ставил на полях восклицательные знаки, как будто иначе я ее не замечу. Уединившись в своем номере, я старалась углубиться в чтение и не думать о матери, которая так же по-дурацки убивала время дома в полном одиночестве, как и я в этой гостинице. Почему бы нам с ней не раскупорить бутылочку вина? Не провести вместе вечер, не посмеяться, посплетничать?.. Но это было невозможно — о чем бы у нас ни заходил разговор, мы словно пробирались через минное поле, на каждом шагу рискуя взорваться. Не было ничего, на что бы мы смотрели одними глазами. Только пятнадцать лет мы с ней прожили вместе, первые пятнадцать лет моей жизни. Потом лишь друг друга навещали — но и тут мы скорее друг с другом воевали, в лучшем случае соблюдали нейтралитет, но никогда между нами не было согласия. Наши вкусы ни в чем не совпадали: нам нравились разные люди и разные вещи.
Взять хотя бы вино. Я предпочитала сухие добротные вина. Она же всегда покупала какую-нибудь дешевую гадость с отвинчивающейся крышкой, — даже если знала, что я собираюсь приехать, — якобы ей не хватало сил вытащить пробку. Я ей подарила, по меньшей мере, пять штопоров, один лучше другого — раскупорить бутылку с их помощью было проще простого. Тем не менее все они лежали в ящичке на кухне, а рядом, как и прежде, стояла бутылка какого-нибудь десертного вина, которое к тому же никогда не охлаждалось. Но я бы пила и его, разбавив холодной минеральной водой (хотя у мамы была только без газа — «другую я не пью»), если б только при этом не приходилось без конца выслушивать, что она обо мне думает: как я одеваюсь, что пишу в газете, как не ценю свое здоровью и сорю деньгами. Разговор неизбежно скатывался к этим ее излюбленным темам, и так мы проводили весь вечер. Если же доходило до того, что она начинала меня сравнивать с отцом («Ты все больше становишься похожа на отца!»), я понимала, что дело приняло опасный оборот, и спешила ретироваться.
Отца уже около тридцати лет не было в живых, но мать по-прежнему охватывал гнев при одной мысли о нем, и она этот гнев вымещала на мне. Выходило, что раз я «так на него похожа», то мы оба каким-то образом повинны в том, что ее жизнь пошла не так, как могла бы.
Читать дальше
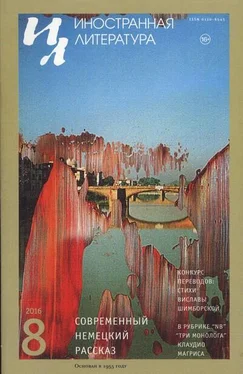




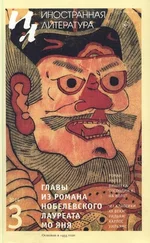



![Эльке Хайденрайх - Все не случайно [Книга воспоминаний]](/books/409846/elke-hajdenrajh-vse-ne-sluchajno-kniga-vospominan-thumb.webp)


