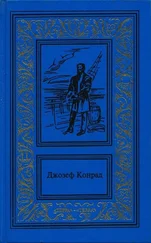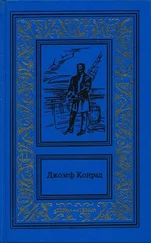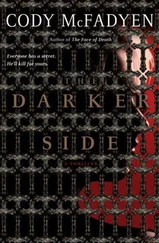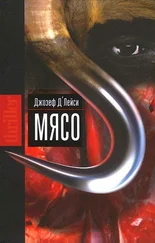Разинув рот, мы стояли на пороге пивной и спрашивали друг друга:
— Что мы услышали, господин Ульметт?..
— Что вы видите, господин Клер?
В этот момент над нами раздалось заунывное мяуканье, и целое полчище кошек принялось скакать по водосточным желобам. В то же время в зале раздался взрыв хохота.
— Ну-ну! — кричал инженер. — Слышите их? Разве я был неправ?
— Ничего, — пробормотал старик судья, — благодарение небу, ничего страшного. Давайте вернемся, дождь снова начинается, — и, направляясь к своему месту, сказал: — Стоит ли удивляться, господин Ротан, что такой старик, как я, вообразит невесть что, когда неба не отличишь от земли, а любовь сочетается с ненавистью, чтобы продемонстрировать нам преступления, до сего дня неведомые в нашем краю? Стоит ли удивляться?
Мы все вновь уселись на свои места, досадуя на инженера, который единственный остался спокоен и видел, как дрожали мы; мы отвернулись от него, глоток за глотком молча осушая свои пивные кружки; он же, облокотившись о раму, насвистывал сквозь зубы какой-то военный марш и отстукивал ритм пальцами по стеклу, не удостаивая своим вниманием наше дурное настроение.
Это продолжалось несколько минут, пока Теодор Блиц не заметил со смехом:
— Господин Ротан торжествует! Он не верит в невидимых духов; его ничто не смущает; он еще очень и очень бодр! Что же еще нужно, чтобы убедить нас в невежестве и безумии?
— Хе! — возразил Ротан, — я бы не осмелился сказать это; но вы так хорошо всему даете определение, господин органист, что нет способа вас разубедить, особенно в том, что касается лично вас; но для моих старых друзей Шульца, Ульметта, Клера и других это не так, совершенно не так; каждому случается увидеть плохой сон — лишь бы это не вошло в привычку.
Вместо того, чтобы ответить на этот прямой выпад, Блиц, склонив голову, казалось, прислушивался к чему-то за окном.
— Тсс! — произнес он, глядя на нас, — тише!
Он поднял палец, и выражение его лица было столь поразительным, что мы все, в необъяснимом страхе, прислушались.
В тот же миг раздалось тяжелое хлюпанье по переполненному ручью, чья-то рука зашарила в поисках дверной ручки, и капельмейстер сказал нам дрожащим голосом:
— Оставайтесь спокойными… слушайте и смотрите!.. Да поможет нам Господь!
Дверь отворилась, и появился Саферий Мютц. Проживи я тысячу лет, лицо этого человека никогда не изгладится из моей памяти. Вот он… я вижу его… Он идет, спотыкаясь… очень бледный… Волосы падают на щеки… Взгляд мрачный и остекленевший… Рабочая блуза, прилипшая к телу… Толстая палка в руках. Он смотрит на нас и не видит, словно во сне. Грязь тянется за ним ручьем… Он останавливается, кашляет и говорит тихо, словно сам себе:
— Вот я! Пусть меня арестуют… пусть перережут горло… Так будет лучше…
Затем, очнувшись и оглядев нас, одного за другим, с выражением ужаса:
— Я говорил! Что я сказал? Ах! Бургомистр… Судья Ульметт!
Он отпрыгнул, чтобы убежать, но перед лицом ночи какое-то движение ужаса отбросило его назад в зал.
Теодор Блиц встал; предупредив нас глубоким взглядом, он подошел к Мютцу и с видом посвященного тихо спросил, указывая на темную улицу:
— Он там?
— Да! — ответил убийца таким же таинственным голосом.
— Он идет за тобой?
— От самого Фишбаха.
— Сзади?
— Да, сзади.
— Так, именно так, — сказал капельмейстер, снова бросая на нас взгляд, — это всегда так! Ну, оставайся здесь, Саферий, присядь там, у камина.
— Брауэр, ступайте за жандармами!
Услышав слово «жандармы», несчастный ужасно побледнел и вновь попытался убежать, но тот же ужас оттолкнул его и, опустившись на углу стола и обхватив голову руками, он произнес:
— О! Если бы я знал… если бы я знал!
Мы были ни живы, ни мертвы. Хозяин вышел. В зале не слышно было даже дыхания: старик судья отложил свою трубку, бургомистр смотрел на меня с удрученным видом, Ротан больше не свистел. Теодор Блиц, сидевший на краю скамьи скрестив ноги, смотрел на дождь, что расчерчивал темноту.
Мы сидели так около четверти часа, опасаясь, как бы убийца снова не ударился в бега, но он не двигался, его длинные волосы свисали между пальцами, и вода, словно из водосточной трубы, текла с его одежды на пол.
Наконец снаружи послышалось бряцание оружия, жандармы Вернер и Кельц возникли на пороге. Кельц, искоса поглядывая на убийцу, снял свою высокую шапку и произнес:
— Доброй ночи, господин мировой судья.
Затем он вошел и спокойно надел наручники на запястье Саферия, по-прежнему прятавшего лицо.
Читать дальше